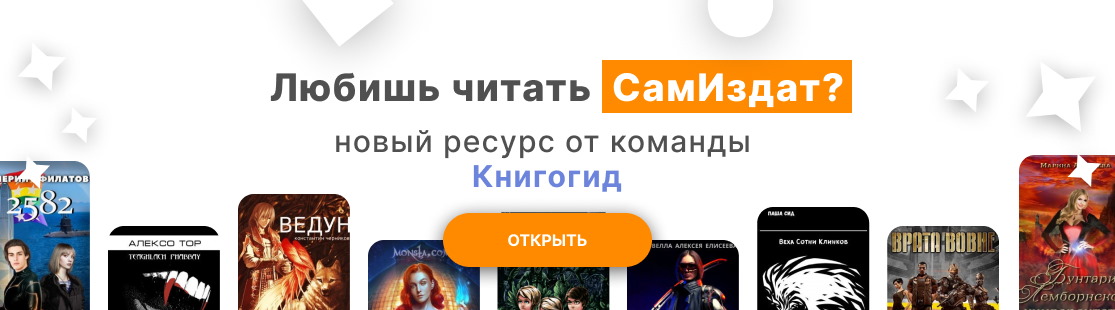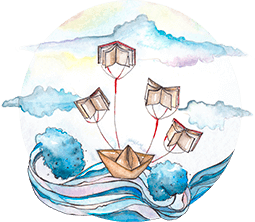Читать онлайн «Время жить и время умирать»
Автор Эрих Мария Ремарк
Гребер выпрямился.
– Ну? – спросил дружинник. – Ваши там есть?
– Нет. Они не знали, что я приеду.
Безумец скривился, вроде как от беззвучного смеха:
– Никто ни о ком не знает, солдат. Никто! И спасаются всегда не те. Со сволочами ничего не случается. Вы это еще не усвоили?
– Усвоил.
– Тогда запишитесь! Запишитесь в горестный список! А потом ждите! Ждите, как мы все. Ждите понапрасну! – Его лицо изменилось, вдруг разорванное беспомощной болью.
Гребер отвернулся. Наклонился, поискал среди мусора что-нибудь, на чем можно писать. Нашел цветной портрет Гитлера в сломанной рамке. Оборот был белый, без текста. Он оторвал верхнюю часть, достал карандаш и задумался. Почему-то вдруг не знал, чту писать. «Прошу сообщить о Пауле и Марии Гребер, – в конце концов написал он. – Эрнст здесь, в отпуске».
– Государственная измена, – тихо сказал дружинник у него за спиной.
– Что? – Гребер резко обернулся.
– Государственная измена! Вы разорвали портрет фюрера.
– Он уже был разорван и валялся в грязи, – сердито бросил Гребер. – А теперь отстаньте от меня со своими глупостями!
Он не находил, чем бы прикрепить записку. И в конце концов вытащил две из четырех кнопок, которыми было приколото обращение матери, и пришпилил свой листок. Сделал он это нехотя, с ощущением, будто украл венок с чужого гроба. Но другого выхода не было, к тому же две кнопки держали послание матери не хуже четырех.
Дружинник смотрел ему через плечо.
– Готово! – воскликнул он, словно отдавая приказ. – А теперь зиг-хайль, солдат! Горевать воспрещается! Надевать траур тоже! Ослабляет боевой дух! Гордитесь, что можете приносить жертвы! Если б вы, сволочи, исполняли свой долг, такого никогда бы не случилось!
Он резко отвернулся и птичьей походкой удалился, переставляя длинные, тонкие ноги.
Гребер тотчас забыл о нем. Оторвал еще клочок от портрета Гитлера и записал на нем адрес, который нашел на двери. Адрес семьи Лоозе. Он их знал и решил спросить у них про родителей. Потом вытащил из рамки остатки портрета, написал на обороте то же, что повесил на дверь, и вернулся к дому восемнадцать. Там зажал записку меж двумя камнями, так что ее было хорошо видно. В результате вероятность, что его обращение заметят, возросла вдвое. Больше он пока ничего сделать не мог. Немного постоял возле груды обломков и камней, не зная, что это – могила ли, нет ли. Плюшевое кресло в нише блестело на солнце, как изумруд. Каштан рядом с ним, на улице, чудом остался совершенно невредим. Его листва нежно сияла на солнце, зяблики щебетали среди ветвей, строили гнездо.
Он посмотрел на часы. Пора идти в ратушу.
Стойка отдела пропавших была на скорую руку сколочена из новых досок. Некрашеные, они еще пахли смолой и лесом. С одной стороны комнаты потолок обвалился. Плотники ставили там опоры и стучали молотками. Повсюду стоял народ, молча и терпеливо ждал. За стойкой сидели однорукий конторщик и две женщины.
– Фамилия? – спросила женщина с правого края. У нее было плоское, широкое лицо и красная шелковая лента в волосах.
– Гребер. Пауль и Мария Гребер. Секретарь налогового ведомства. Хакенштрассе, восемнадцать.