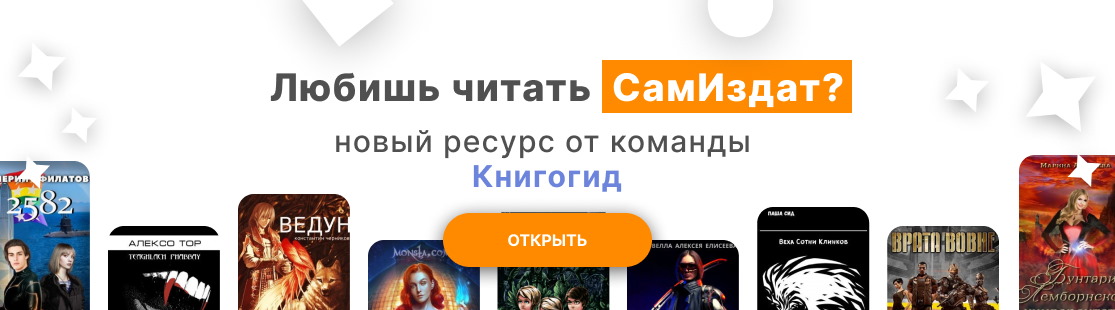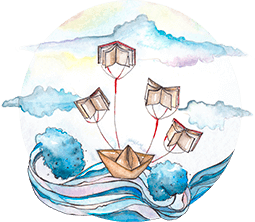Читать онлайн «Мерседес-бенц. Из писем Грабалу»
Автор Павел Хюлле
Annotation
Павел Хюлле — ведущий польский прозаик среднего поколения. Блестяще владея словом и виртуозно обыгрывая материал, экспериментирует с литературными традициями. «Мерседес-Бенц. Из писем к Грабалу» своим названием заинтригует автолюбителей и поклонников чешского классика. Но не только они с удовольствием прочтут эту остроумную повесть, герой которой (дабы отвлечь внимание инструктора по вождению) плетет сеть из нескончаемых фамильных преданий на автомобильную тематику. Живые картинки из прошлого, внося ностальгическую ноту, обнажают стремление рассказчика найти связь времен.
Проза былых времен
Павел Хюлле
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Проза былых времен
«„Мерседес-бенц“. Из писем к Грабалу». Так много слов, сто сорок три с половиной страницы слов — и столько теплой тишины. Подобное ощущение бывает, когда рождаются воспоминания. Прошлое разговаривает шепотом, ходит в войлочных тапочках. Даже прежний крик сегодня доступен лишь взору — от него остается лишь образ. «Крик» Эдварда Мунка. Черная воронка разверстого горла и непреодолимое молчание на ее дне. Ничего больше. Хюлле — Мунк в прозе? Можно, пожалуй, сказать и так. И не будь это чересчур пафосно, я бы повторил за Толстым: опиши тишину собственной памяти, и ты опишешь мир.
«Milý pane Bohušku, a tak zase život udělal mimořádnou smyčku — Дорогой пан Богумил, вот и вновь жизнь описала удивительный круг, потому что, вспоминая тот свой первый майский вечер, когда, перепуганный и не на шутку взволнованный, я впервые сел за руль „фиатика“ панны Цивле, единственной инструкторши в фирме „Коррадо“ (…)». Так начинается «Мерседес» — фразой, которая длится две, а то и три страницы.
Хюлле пишет большими периодами, на едином дыхании. Слова, что ходят в войлочных тапочках, все не дают поставить точку, все пытаются ее заговорить, словно опасаясь, как бы очередная из таких точек не оказалась последней — и в тексте, и в памяти. Ведь что тогда? Плоское, будто блин, существование исключительно «здесь и сейчас»? Кто знает, может, и Кантор ужасно боялся завершения «Умершего класса»[1], каждого финала каждого спектакля. Его, вероятно, пугала мысль о том, что память может остановиться. Отсюда — повторяющийся рефрен вальса Франсуа, ритм соскальзывающей с заигранной граммофонной пластинки иглы. Еще раз, и еще, и еще… Бесконечные фразы Хюлле вновь и вновь описывают удивительные круги во времени и пространстве. Писатель чередует совершенный вид прошлого — и несовершенный настоящего, призывает призраки предметов, тел, форм и запахов минувшего, возрождает