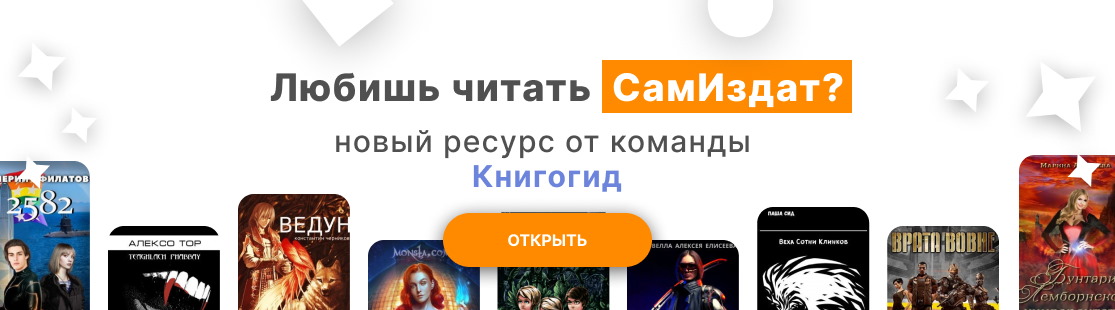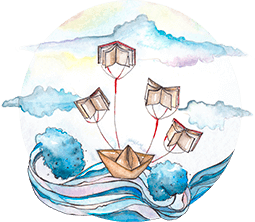Читать онлайн «Колдун»
Автор Софья Ролдугина
Разозлился хан:
«Что за лекарство? Вот увижу я, как звери твои кости растащат — это меня точно излечит!»
«А это, — отвечал Аю, — вряд ли. Против меня ни один зверь не пойдет».
И долго они еще так спорили, да надоело младшей жене ждать. Тайком пробежала она в середину деревни, к колодцу, сорвала с головы своей покрывало, растрепала волосы и стала громко плакать и причитать:
«Ой, горе, горе этой деревне и людям ее! Навлек на них беду колдун Аю! Хотел он хана великого проклясть, со свету сжить — да не вышло! И теперь гневается хан, грозится деревню дотла сжечь, если не отдадут ему колдуна злокозненного! Ой, горе, горе!»
Заслышав этот плач, люди стали выходить из домов и оглядываться испуганно. А кое-кто тут же и припомнил, что-де глаз у Аю нехороший, что не стареет Аю уже много лет, что пропадает куда-то в полнолуние… И стали роптать люди:
«Зачем нам такой колдун? Раньше без него жили — и горя не нажили, а с ним и горе тут как тут, на пороге стоит — открывай, мол, хозяин!»
Сбились в стаю — куда там степным собакам! — и пошли к дому Аю. Смотрят — а хан-то уже от злости побагровел, кулаками потрясает, а слова уже сказать не может. Аю же как стоял на пороге, так и стоит — зубоскалит только.
…Так и не вспомнили потом, кто первым камень бросил. Но где один, там и второй, где второй, там и третий… Будто в дурмане это было. Лишь тогда опомнились люди, когда заголосила старуха Кимет:
«Птицы замолчали, птицы замолчали! Что же вы делаете-то? Птицы замолчали…»
И заплакала.
И глупый был это крик, но страшно сделалось всем. Даже хану; только он-то страха показать не мог — нахмурился, рукою махнул:
«На костер его, жечь!»
Будто и не боялся ничего.
Тронули воины слуг легонько копьями — не до крови, а так, подбодряя, смелость внушая. Разок-другой без толку, а на третий зашевелились слуги, поплелись к колдуну, что лежал окровавленный у порога своего дома, подхватили его за руки — за ноги — и потащили к ручью, где сложена была высокая куча хвороста. Раскачали-раскачали — и закинули на самый верх.
Увидела это младшая жена и побежала к дому, где заперли северянку.
Смеется под окном, заливается:«А колдуна-то твоего жечь собираются! Не ходить тебе с ним больше к ручью, не позорить хана! Станешь ты опять примерной женой, будешь нас слушаться, нас рисовать тонкой кистью на белом холсте!»
Услышала эти речи Сёйне — забилась, как птица в клетке, что грудью бросается на прутья, пусть и не может их сломать. А младшая жена все не унимается:
«Чуешь, дымом понесло? Это костер разгорелся!»
«Слышишь, люди поют? Это радуются они, что колдун погибает».
«Слышишь крик? Это он, он, Аю твой кричит!»
И правда — замерла Сёйне, и знакомый голос коснулся ее ушей. Искажен был он от боли, но все так же чист и звонок. От горя еле живая, выдернула Сейне из-за пояса синюю травинку, прикусила ее — и упала замертво.
Костер догорел, и пепел по ветру развеяли. А хан, довольный, возвратился в свой шатер. Младшую жену он позвал к себе и наградил ее кольцами, серьгами и звонкими браслетами.
А потом узнал, что Сёйне с той самой ночи так и не очнулась — и испугался. Сразу вспомнилось ему, как красива была северянка — белокожая, златовласая, с глазами, будто ясное небо. И созвал хан всех лекарей, каких мог найти, но никто так и не сумел ее исцелить. Тогда старшая жена, что была мудрее всех, посоветовала ему клич кинуть — мол, кто вылечит северянку, тому достанутся несметные сокровища. А какие — не говорить; любопытство лучший погонщик, чем алчность.