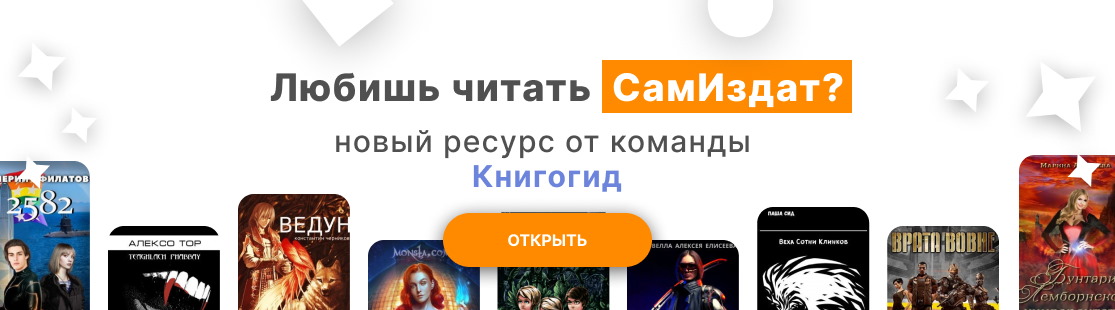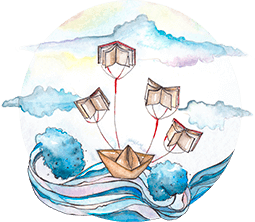Читать онлайн «Ранние новеллы»
Автор Томас Манн
— Будем здоровы! — очень мягко и сочувственно сказал Зельтен, опрокинув бокал красного вина.
Это окончательно вывело славного юношу из себя.
— Ты! Ты! — взвизгнул он. — Старый циник! Да что с тобой говорить! Но вот вы, — он обратил вызов к нам с Майзенбергом, — вы обязаны согласиться со мной! Да или нет?
Майзенберг чистил апельсин.
— И то и другое, как же иначе, — заверил он.
— Ну же, дальше, — подбодрил я оратора. Ему обязательно нужно было выпустить пар, иначе он все равно никого не оставил бы в покое.
— Так вот я и говорю, в глупейших предрассудках и косной общественной несправедливости! Все эти мелочи, господи, да это просто смешно. Что они теперь открывают женские гимназии и нанимают особей женского пола телеграфистками или кем-то там еще — да какая разница. Ведь в целом-то, в целом! Какие воззрения! Хотя бы в том, что касается эротики, сексуальности — какая узколобая жестокость!
— Вот как, — с облегчением произнес доктор, откладывая салфетку. — По крайней мере становится забавно.
Лаубе не удостоил его взглядом.
— Вот смотрите, — неистово продолжал он, размахивая крупной из поданных на десерт конфетой, которую затем многозначительным жестом и отправил в рот, — вот смотрите, если двое любят друг друга и он платит девушке, то он-то все равно остается честным человеком, даже эдаким молодцом, — вот чертов негодяй! Но ведь особь женского пола погибла, общество ее отторгло, отринуло, она падшая. Да, пад-ша-я! Где же нравственная опора подобных представлений? Разве мужчина не пал точно так же? Более того, разве он не поступил более бес-чест-но, чем она?! Ну, говорите! Скажите же что-нибудь!
Майзенберг задумчиво всмотрелся в дым от своей сигареты.
— В принципе ты прав, — добродушно заметил он. Лицо Лаубе просияло торжеством.
— Я прав? Прав? — только и повторял он. — Где же нравственное оправдание подобных суждений?
Я взглянул на доктора Зельтена. Тот совсем притих. Обеими руками играя хлебным шариком, уставился вниз с той самой горечью на лице.
— Давайте пересядем, — спокойно сказал он. — Хочу рассказать вам одну историю.
Мы отодвинули обеденный стол и удобно устроились в заднем углу комнаты, выложенном коврами и уставленном мягкими креслами, где было так уютно беседовать. Свисавшая с потолка лампа заливала пространство голубоватым приглушенным светом. Под абажуром уже слегка покачивался скопившийся слой сигаретного дыма.
— Ну, валяй, — сказал Майзенберг, наполняя четыре фужера французским бенедиктинским ликером.
— Да, коли уж на то пошло, я с удовольствием расскажу вам эту историю, — кивнул доктор. — Вполне готовую, так сказать, в виде новеллы. Вам известно, что когда-то я занимался чем-то подобным.
Я не очень хорошо видел его лицо. Он сидел, перебросив ногу на ногу, руки в карманах пиджака, откинувшись в кресле, и спокойно смотрел на голубую лампу.
— Герой моей истории, — начал он через какое-то время, — окончил у себя в северонемецком городке гимназию и в девятнадцать или двадцать лет поступил в университет П. , довольно крупного южнонемецкого города.
Он был, что называется, «славный малый». На него невозможно было сердиться. Веселый, добродушно-уживчивый, он тут же стал любимцем всех товарищей. Красивый, стройный, с мягкими чертами лица, живыми карими глазами, нежным изгибом рта, над которым пробивались первые усы. Когда, заломив светлую круглую шляпу на черных волосах, засунув руки в карманы брюк и с любопытством посматривая вокруг, он шел по улице, девушки бросали на нею влюбленные взгляды.