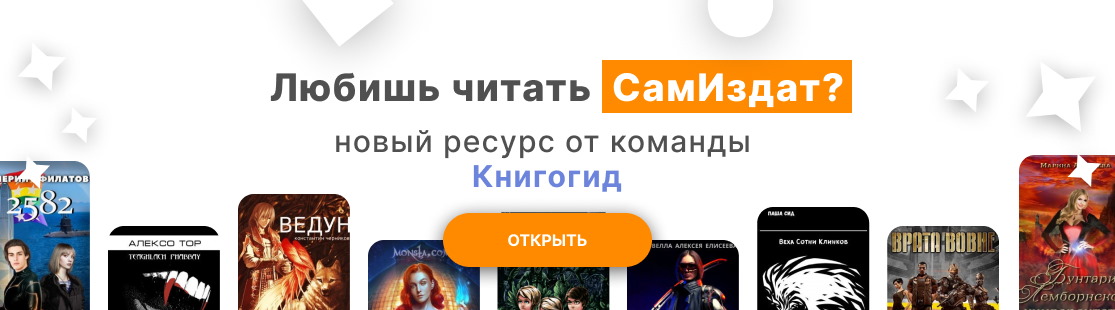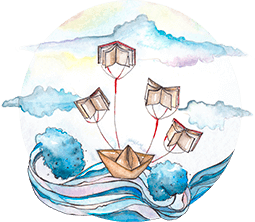Читать онлайн «Мадемуазель де Мопен»
Автор Теофиль Готье
Теофиль Готье
Мадемуазель де Мопен
Предисловие
Одна из самых забавных примет славной эпохи, в которую нам посчастливилось жить, — это, бесспорно, оправдание добродетели, предпринятое ныне всеми газетами, какого бы ни были они цвета, — красные, зеленые или трехцветные.
Разумеется, добродетель — почтенное свойство, и нам отнюдь не хочется — Боже сохрани! — ею пренебрегать. Это порядочная, достойная женщина. И мы полагаем, что глаза ее с изрядным задором поблескивают из-под очков, что чулки у нее не так уж и перекручены, что табак из золотой табакерки она берет со всем мыслимым изяществом, а ее собачка приседает и кланяется не хуже учителя танцев. Так мы полагаем. Мы даже согласимся, что для своего возраста она еще хоть куда и прекрасно сохранилась. Очень приятная бабушка, но все-таки бабушка… По-моему, естественно будет предпочесть ей — особенно если вам двадцать лет — этакую премилую безнравственность, дерзкую, кокетливую, разбитную, слегка растрепанную, в юбчонке скорее короткой, чем длинной, с вызывающей ножкой и вызывающим взглядом, с румянцем во всю щеку, с улыбкой на устах и сердцем на ладони. Самые чудовищно добродетельные журналисты не посмеют утверждать обратное, а если кто и посмеет, то на самом деле он скорее всего так не думает. Думать одно, а писать другое — это случается на каждом шагу, особенно с добродетельными людьми.
Помню, какие колкости до революции (я имею в виду Июльскую) сыпались на горемычного и целомудренного виконта Состена де Ларошфуко, удлинившего туники танцовщиц в Опере и своей патрицианской рукой наложившего стыдливые нашлепки на середку всех статуй. Ныне г-на виконта Состена де Ларошфуко уже превзошли, и намного.
С тех пор стыдливость весьма усовершенствовалась и дошла до таких тонкостей, о каких прежде и не помышляли.Не имея привычки рассматривать у статуй известное место, я вместе с другими считал, что на свете не может быть выдумки смешнее виноградных листочков, вырезанных г-ном попечителем изящных искусств. Похоже, я заблуждался, и виноградный листок — одно из похвальнейших общественных установлений.
Мне поведали, но я не пожелал верить, так дико это мне показалось, что есть люди, которые, стоя перед фреской Микеланджело «Страшный суд», видят только эпизод с распутными священнослужителями и прикрывают себе лица, вопя о глумлении над безутешной скорбью!
Эти же люди изо всех романов о Родриго знают только куплет об уже. Едва на картине или в книге мелькнет нагота, они спешат прямиком туда, как свинья — к грязной луже, не обращая внимания на пышные цветы и прекрасные золотистые плоды, тянущиеся к ним со всех сторон.
Я, признаться, не столь добродетелен. Когда бесстыдница Дорина выставит мне напоказ свой бюст, я, конечно, не стану доставать из кармана платок, чтобы прикрыть эту грудь, на которую не в силах смотреть. Я буду смотреть на грудь так же, как на лицо, и получу удовольствие, коль скоро она окажется белой и округлой. Но я не стану щупать платье на Эльвире, дабы определить, мягок ли шелк, и не стану с набожным видом заваливать ее на край стола по примеру бедняги Тартюфа.