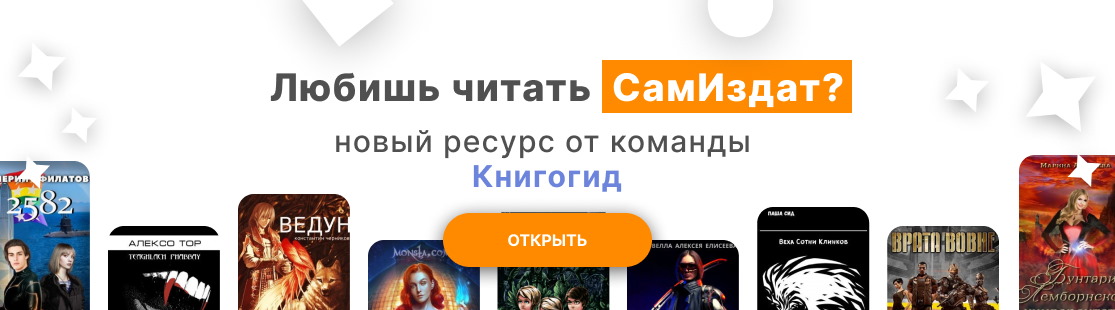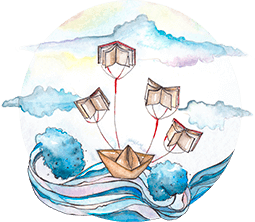Читать онлайн «Земля жаждет чуда»
Автор Эфраим Севела
Эфраим Севела
Земля жаждет чуда
1. Экстерьер.
Лес.
Белесые облака, как месиво паутины. Как космы старушечьих волос. Бегут, тянутся, извиваясь и тая. И сквозь них проступает неясный болезненный свет.
Призрачный свет озаряет дремучий лес. От исполинских сосен черные тени пиками ложатся на большую поляну. Девственный дерн. Мягкий слой истлевающих игл.
И как рана, как страшная язва — глубокая яма, свежевырытая траншея через всю поляну с желтым бугром песка по краю. Лунный свет режет черной тенью золотую стенку ямы.
Тихо. До звона в ушах. Этот звон нарастает до рокотов моторов, и в библейский покой врывается рев тяжелых автомобилей.
При свете луны как из небытия выплывают на поляну грузовики с кузовами, полными людей, как сельдей в бочке.
Рвутся с поводков у солдат бешеные сторожевые псы. Подгоняемые солдатами, люди спрыгивают с кузовов на землю. Большие люди и маленькие. Женщины и мужчины. Дети.
Мы не видим их лиц. Мы видим силуэты. Вот они уже выстроены у края рва, спиной к пропасти — неровная цепочка темных силуэтов. Большие и маленькие. Древние, как патриархи, старцы и несмышленые малыши.
А напротив, у подножия могучего дуба, тоже силуэты — солдаты, устанавливающие пулемет, деловито заправляющие магазин бесконечной патронной лентой. И силуэты сторожевых псов, нервно поскуливающих и облизывающихся в предвкушении крови.
Только собачий вой и слышен.
Люди же молчат. Молчат палачи — они заняты установкой пулемета. Молчат темные силуэты у края рва. Их участь — ждать.Солдаты легли за пулемет, и его ребристый ствол с прицельной планкой плотоядно поплыл по безликим силуэтам, большим и маленьким, как по мишеням в тире, выбирая, с кого бы начать, в кого первого плюнуть огнем.
В узкой прорези прицела, как в тесной рамке, возникают и исчезают не люди, а призраки. А ребристый ствол все движется, пресыщено выбирая, облюбовывая, на ком бы остановиться, в кого бы метнуть смертельный кусочек свинца из первого патрона длинной ленты, свисающей до земли.
И замер, найдя. Черное отверстие дула застыло на силуэте женщины с младенцем на руках. Знакомом до боли силуэте.
В прорези прицела стояла ОНА. Богоматерь. Мадонна. Рожденная кистью Рафаэля.
И уже не силуэт, а всю ее видим, озаренную светом изнутри. И это юное прелестное лицо, и эту неповторимую улыбку, обращенную к младенцу на ее руках.
Сикстинская мадонна стоит перед пулеметом. Но, в отличие от той, библейской, она мать не одного, а двоих детей. Старший ребенок — мальчик, лет десяти, кудрявый и черноволосый, с глазами, как вишни, и оттопыренными ушами, ухватился за юбку матери и недоуменно глядит на пулемет.
Стоит такая гнетущая, зловещая тишина, что хочется закричать, завыть. Словно замер весь мир, остановилось сердце вселенной. И вдруг в этой жуткой тишине неожиданно послышался тихий плач ребенка.
На руках у мадонны заплакало дитя. Земным, обычным плачем. И таким неуместным здесь, у края могилы, перед черным отверстием пулеметного дула.
Мадонна склонила лицо к нему, качнула дитя на руках и тихо запела ему колыбельную.
Древнюю, как мир, еврейскую колыбельную, больше похожую на молитву, чем на песенку, и обращенную не дитяти, а богу.