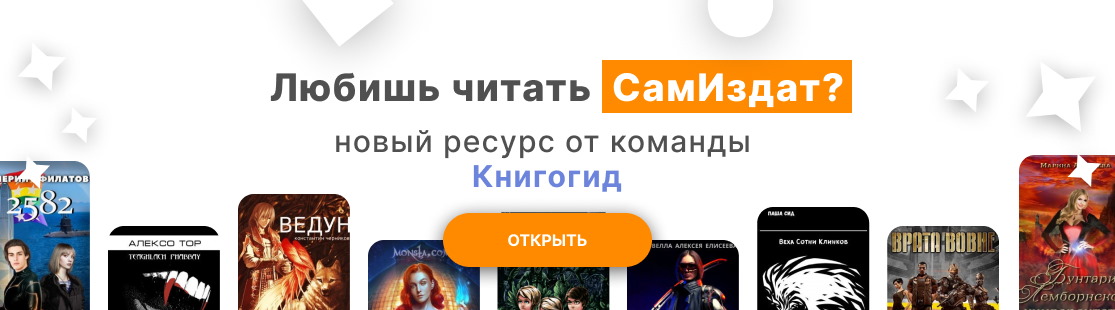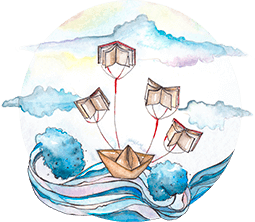Ларс Соби Кристенсен
Цирк Кристенсена
В Париже я упал. Прямо на глазах у своих издателей и переводчиков, причем не только из Европы, США и Южной Америки, но и из Австралии, Новой Зеландии и Японии, не говоря уже о журналистах, разумеется тоже присутствовавших на этом вечере, я, стало быть, рухнул со сцены в респектабельной аудитории № 2 на большой книжной ярмарке в Париже, 4 марта 2005 года, в 19. 03. Дело в том, что меня туда пригласили, предложили рассказать о своеобразии скандинавской литературы, точнее, норвежского романа, можно на материале моих собственных произведений, коль скоро я усматриваю в них скандинавское, или норвежское, своеобразие, а если мне захочется остановиться на том, как или почему я вообще стал писателем, все будут опять-таки искренне рады. Диапазон, мягко говоря, весьма широкий, и, пожалуй, мне бы следовало насторожиться, но успех нередко притупляет бдительность, делает невнимательным, чуть ли не безразличным, а я аккурат, как говорится, имел успех. Словом, сам того не зная, я угодил в опасную зону. И в таком вот состоянии поднялся по пяти ступенькам на узкие, шаткие подмостки, воздвигнутые здесь по случаю упомянутого мероприятия и абсолютно не гармонировавшие с величественным интерьером. Вероятно, их предоставила фирма, которая обслуживала спортивные клубы, праздники 14 Июля и церковные базары. Судя по виду. При моем появлении грянули и быстро стихли аплодисменты. Атмосфера дышала ожиданием. Я поклонился. В кармане пиджака у меня лежала шпаргалка, где я написал три слова, три ключевых слова, в связи с широкомасштабной темой вечера, сиречь со своеобразием скандинавской литературы, точнее, норвежского романа, и с тем, как и почему я стал писателем, коль скоро я сочту уместным на этом остановиться, а написал я вот какие слова: время, молчание, меланхолия. Я заблаговременно попросил организаторов — и письменно, и устно — поставить мне стул, потому что, когда приходится говорить стоя, меня начинает шатать и жутко кружится голова, виной тому дыхание и сердечный ритм, по-моему, врачи называют это суправентрикулярной экстрасистолией; если я спокойно сижу на стуле, сердце бьется ровно, ритмично, метроном из плоти и крови, а на стойках — сплошь двойные удары, будто собачонка в груди рвется с цепи. И про стул не забыли. Он стоял у самой стены, завешенной огромной картой Скандинавии, донельзя обыкновенный жесткий стул, вроде тех, какие раньше использовали в школах и какие до сих пор зачастую составляют единственную меблировку в унылых приемных комнатах суровых дантистов, — сиденье и спинка из тонкой фанеры, без подлокотников. Без сомнения, потребуется немало сил, чтобы, сидя на таком стуле, вдохновенно говорить о литературе, это я сразу понял, но не огорчился, ведь я имел успех. Однако же мне показалось неподобающим сидеть так близко к карте Скандинавии, заслоняя чуть не всю Данию, с точки зрения публики это как минимум может стать помехой. Потому-то я подвинул стул к краю подмостков. Но лучше бы мне этого не делать. Усевшись и собираясь назвать свое имя, я тотчас заметил, что стул зашатался, а еще понял, что вставать поздно. Не успел сказать ни слова и уже начал падать. Одна ножка стула висела в воздухе. Он качнулся вперед. Я увидел только, что часы на стене напротив показывают 19. 03. Увидел улыбающиеся, приветливые лица, не заметившие пока, что происходит. И этот единственный миг распахнулся во всем своем ужасе и косым шрамом застыл на моем высоком лбу. Вот так я падал в Париже. Стул подо мной исчез.
Я падал в публику, на пол, в пропасть. Некоторые используют оборот «свободное падение». Они либо врут, либо сами не знают, что говорят. Ведь падение свободным не бывает. Падающий отнюдь не свободен. Мое падение было несвободным, каким только и может быть падение при всем честном народе. Большей несвободы я никогда не испытывал. Потерял не просто равновесие, но и собственное достоинство. Как неуклюжий манекен, как обезумевшая марионетка, незримыми нитями зацепившаяся за капризные пальцы злокозненного божества, я висел в пространстве, меж подмостками и залом, меж люстрой и паркетным полом, и уже слышал крики, испуганные крики публики, слышал приближающиеся шаги, видел, что на часах над дверью по-прежнему 19. 03, и уже начал прикидывать, как бы выбраться из этой неприличной ситуации, из этого кошмарного инцидента, сохранив хоть малую толику, тень, клочок чести и достоинства, — я мог бы неподвижно лежать на полу, независимо от того, сильно ушибусь или нет, мог бы лежать там мертвый и тем возвысить невезуху до судьбы, несчастный случай до катастрофы, обратить смех в слезы, ведь придется вызвать врачей и «скорую», предпринять реанимацию, а потом, сидя в инвалидном кресле, полностью парализованный, я мог бы вчинить иск нерадивой фирме, соорудившей эти кривые подмостки, этот кособокий настил, мог бы вчинить иск тому или той, кто поставил этот дурацкий стул у стены, мог бы вчинить иск всей книжной ярмарке и даже Парижу, Шираку, Ле Пену, Эйфелевой башне и Прусту. С другой стороны, я мог бы проявить милосердие и всех простить. Но до этого не дошло. Я вскинул руки, словно прощаясь навсегда или напоследок отчаянно пытаясь за что-то ухватиться, за недостижимую и прочную опору, тень собственной жизни, хлипкую трапецию под синим куполом воспоминаний, и в этот миг, в этот бесконечно долгий миг увидел себя на Бюгдёй-аллé, перед магазином Бруна «Музыка и ноты»: я стоял там и любовался электрогитарой, выставленной в витрине, среди труб и гармоник, — ярко-красный фендеровский «Стратокастер», с навинченной кленовой шейкой, с кленовым грифом, регулятором силы звука и тремя синглами с угольными сердечниками, и знал я только одно: эта гитара непременно должна стать моей. Бюгдёй-алле я упомянул постольку, поскольку стоял именно там, на этой респектабельной улице с солидными неоренессансными и барочными фасадами, на ословском парижском бульваре, что ведет от площади Лапсеторв в сторону залива Фрогнерхилен и самóй Королевской резиденции, а вдобавок — если позволительно прибегнуть к такому помпезному выражению, а я считаю, что позволительно, — увековечен песней «Когда в цвету каштаны на Бюгдёй-алле» в незабываемом, мягко-бравурном исполнении Йенса Боок-Йенсена. Но сейчас каштаны не цвели. Они роняли плоды, и скоро эти зеленые гранаты, эти древесные ежики начнут вцепляться в шевелюры ничего не подозревающих прохожих, которые одинаково недоумевали каждую осень, когда на Бюгдёй-алле с деревьев сыпались каштаны, исключение составляли те, кто носил шляпы, и, собственно, на Бюгдёй-алле таких было большинство — и мужчин, и женщин. Раз уж я завел об этом разговор, то назову и дату, сделать это необходимо, и чем раньше, тем лучше, ведь рассказу привязка к реальному времени лишь на пользу, рассказ происходит не только в каком-то месте, но и во времени, причем тоже вполне определенном: 10 сентября 1965 года я шел домой из школы, из Вестхеймской, где учился в первом реальном классе, и остановился на Бюгдёй-алле, аккурат перед магазином «Музыка и ноты», чтобы еще разок полюбоваться электрогитарой в витрине. А если кому интересно, что еще случилось на свете в тот день, могу сообщить, что венгр Дюла Животски установил новый мировой рекорд в метании молота, послав сей снаряд на соревнованиях в Дебрецене на 73,74 метра; композиция «Satisfaction» группы «Роллинг стоунз» заняла верхнюю строчку в британских хитпарадах, а в Блиндерне накануне зафиксировали 58,7 мм осадков, новый рекорд для этой метеостанции. Впрочем, сейчас было сухо, задувал ровный ветер, передышка на стыке лета и осени. Однако это не имеет особого отношения к моему рассказу, служит ему разве что шаткими подпорками. Важен здесь ценник, привязанный бечевкой к колку басовой струны: 2250 крон. Я располагал наличностью в размере пятидесяти эре, и 43 кроны лежали у меня на счете в Детсклубе, то бишь в Детском сберегательном клубе, а счет этот был впредь до следующего лета за семью печатями и колючей проволокой; раз в неделю мне выдавали три кроны за то, что я выносил мусор, подчистую съедал обед, убирал свою комнату и вообще хорошо себя вел, — иными словами, между мной и гитарой стояла неодолимая стена, целая каменная гора, головокружительная сумма, а не только чистое, блестящее стекло витрины, отчего масштабы соблазна еще увеличивались. Наследства мне в скором времени ожидать не приходилось, ведь мои родители только-только достигли середины жизни, как они твердили каждую субботу, и были вполне здоровы, хотя мама страдала в полнолуние головной болью, а отец иной раз жаловался на спину, но на это жаловались и все прочие отцы в округе, особенно под вечер в воскресенье, когда новая рабочая неделя словно гармошку сжимала позвоночник меж затылком и поясницей; само собой, мог произойти несчастный случай, ведь такое и впрямь случалось, причем зачастую дома, где норвежцы проводят большую часть жизни, мама, к примеру, могла, поправляя шторы, упасть со стремянки и разбить голову о дверной косяк, а отца мог хватить удар, когда он, придя с работы, нашел бы ее на полу, — впрочем, так далеко я в своих размышлениях не заходил, думать о подобных вещах грешно, вдруг они сбудутся, что тогда? Был еще вариант — украсть гитару, но как украсть электрогитару и не попасться? Другое дело шоколадка, пакетик соку или хоккейная шайба — живо сунул в карман, под куртку или в резиновый сапог, и готово, сам я, правда, никогда этим не занимался, видел только, как воруют другие, одноклассники, у которых уже были приводы, однако ж фендеровский «Стратокастер» под курткой не спрячешь, и вообще, кража такого инструмента уже не мелкое воровство, а самый настоящий грабеж, тут явно требуются маска, свитер с высоким воротом, басистый голос и оружие — короче говоря, этот вариант я тоже незамедлительно отмел. До дня рождения еще целый год, до Рождества три с половиной месяца, да что там, если бы оно было вчера, электрогитару мне нипочем бы не подарили, пусть даже в списке пожеланий числилась бы одна-единственная позиция, то бишь ярко-красный фендеровский «Стратокастер», ну а стащить несколько купюр из хозяйственных денег, что лежали в комоде, в третьем ящике справа, значило отправиться прямиком в тюрьму, к тому же мой отец служил кассиром в банке на площади Солли-плас, и не простым кассиром, а главным, стало быть, по большому счету главнее его только министр финансов, дядюшка Скрудж и Господь Бог, и каждый эре в доме был на учете. Вдобавок мама почти всегда сидела дома, лишь один-два раза в месяц она не без удовольствия покидала родные пенаты, в такие дни — обычно они падали на понедельники — она стояла за прилавком в магазине Лунна «Фотоаппараты и пленка» на Тидеманнс-гате, а случалось, и проявляла фотографии, в темной комнате за магазином, тогда всю оставшуюся неделю от маминых пальцев пахло загадочными химикатами, и все, к чему она прикасалась, оборачивалось фотографиями, даже я, когда она клала ладонь мне на лоб и желала доброй ночи, становился снимком, который смешивался с образами сновидений. Но все это пока можно забыть. В свое время я еще напомню о своих родителях. Запомнить надо только электрогитару, ценник на 2250 крон и мое полное безденежье.