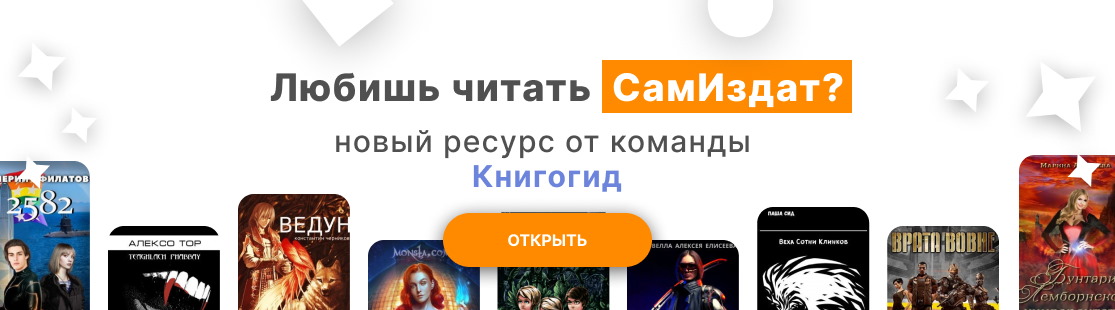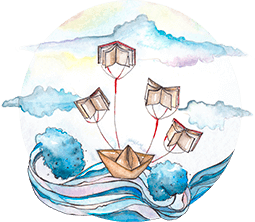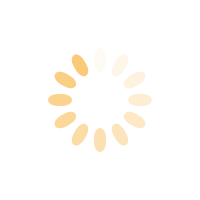Читать онлайн «Избранное»
Автор Александр Кушнер
Архилох еще пьет, опершись на копьё,
Быть, поэтому рядом копье и питье,
Надо вспомнить себя молодым.
Впрочем, жизнь без копья проведя, налегке,
Я изнежен в сравнении с ним.
И века ни на шаг оттеснить не смогли
Где он пил, там он пьет и сейчас,
Пьет вино за стихи и за нас!
Вот он, первый лирический в мире поэт,
Что есть греческий эпос, а лириков нет:
Не Гомер он и не Гесиод.
За короткую вещь я поэму отдам,
Он не знает об этом, но тверд и упрям.
Или знает, что не одинок?
И, склонясь, очищает свой плащ от репья,
И, кто знает, в блокноте моем
Он царапает что-то копьем.
Одну минуточку, я что хотел спросить:
О, горевать и уставать за трех людей
Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей.
Он за листом в суде марает новый лист,
В бюрократической машине той скрипеть.
Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор.
Куда удачливее Эрнста Теодор.
Он пишет повести ночами при свече.
Он пишет повести, а сердцу все грустней.
Тогда приходит к Теодору Амадей,
Гость удивительный и самый дорогой.
Он, словно Моцарт, машет в воздухе рукой.
На Фридрихштрассе Гофман кофе пьет и ест.
“На Фридрихштрассе”, - говорит тихонько Эрнст.
“Ах нет, направо!” - умоляет Теодор.
“Идем налево, - оба слышат, - и во двор”.
Играет флейта еле-еле во дворе,
“Но все равно она, - вздыхает Амадей, -
Судебных записей милей и повестей”.
* * *
Декабрьским утром черно-синим
И выйдем молча на мороз.
Киоск фанерный льдом зарос,
Деревья бьет сырая дрожь,
А щеки варежкою трешь.
Шел ночью снег. Скребут скребками.
Бегут кто тише, кто быстрей.
Проносят сонных малышей.
Как не похожи на прогулки
Мы дрогнем в темном переулке
На ленинградском сквозняке.
И я усилием привычным
Домам, и скверам безразличным,
И пешеходу на мосту.
И замерзаю, весь в снегу,
Мне не удался, не могу.
* * *
Но время не хуже его.
Действительны оба лекарства:
Не вспомнить теперь ничего.
И был бы один результат.
Какие-то степи дымятся,
Какие-то тени летят.
Неважно. Допустим, Джанкой.
Вот видишь: две разные Леты,
А пить все равно из какой.
* * *
Кочевых табунов,
К ней любовь поборов.
Славя конскую стать,
Шею лошади в мыле.
И хоронят опять.
Но полощутся флаги
И дрожит Копенгаген,
Цеховые дома,
Или вечность сама.
Потихоньку нажав,
Въехать, к сердцу прижав
Не сплошной, философский,
Бледно-желтый, чуть жесткий,
Золотящий фасад.
Впрочем, нам и не надо
Вон у Летнего сада
Над петровской Невой,
На закат золотой.
На краешке стула сидел
На яркую сцену глядел.
Квартет баянистов играл,
У рампы раз пять умирал.
Летела щепа из-под ног -
На круглый взглянул потолок.
Весь в райских цветах небосвод,
Нестройный вели хоровод.
Ходили по кругу и пели.
Сказал мне, что ждут нас на небе
Концерты не хуже, чем здесь.
И господи, как захотелось
Чтоб там не плясалось, не пелось,
1963
Ножом по рюмочке стучит.
Гарцует тот, кто не гарцует,
С трибуны машет и кричит.
А кто танцует в самом деле
Тем эти пляски надоели,
1963
Но и в самом легком дне,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
Злей хвоща и молочая,
Сердце тайно обжигая.
За сараем, за буфетом
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!