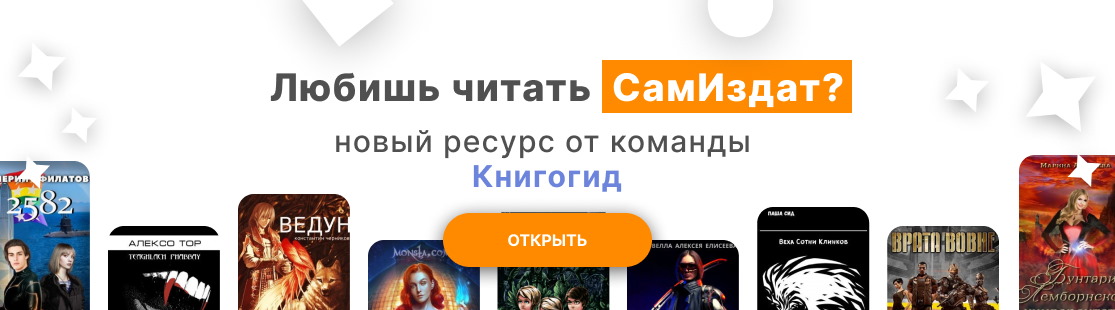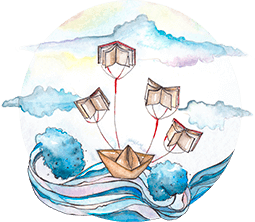Читать онлайн «Вымышленные истории»
Автор Хорхе Луис Борхес
ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС
ВЫДУМКИ
Предисловие
Произведения, включенные в эту книгу, если и исполнены чуть менее неуклюже и грубо, все же не слишком отличаются от тех, что составляют предыдущую. Быть может, два из них заслуживают скупого комментария: «Смерть и буссоль» и «Фунес, чудо памяти». Второй из этих рассказов представляет собой разросшуюся метафору бессонницы. Действие первого, несмотря на германские и скандинавские имена персонажей, разворачивается в Буэнос-Айресе — неком Буэнос-Айресе из сновидений: извилистая Рю-де-Тулон — Пасео де Хулио; вилла «Трист-ле-Руа», отель, где Герберт Эш обрел, вероятнее всего, так и не прочитанный им Одиннадцатый Том иллюзорной энциклопедии. Уже отредактировав этот текст, я вдруг подумал о том, что было бы вполне разумным расширить охватываемые им время и пространство: месть могла бы передаваться по наследству из поколения в поколение, назначенные сроки — исчисляться годами, если не столетиями. Первая буква Имени могла быть произнесена в Исландии, вторая — в Мексике, третья — где-нибудь на Индостане. Может быть, мне стоит добавить, что в хасиды принимали лишь святых, а четырехкратное человеческое жертвоприношение с целью обретения четырех букв, составляющих Имя, — не более чем вымысел, легенда, подсказавшая мне форму моего повествования?
Шопенгауэр, Де Куинси, Стивенсон, Маутнер, Шоу, Честертон, Леон Блуа — вот тот разношерстный список авторов, чьи произведения я не устаю перечитывать. В фантазии на темы богословия, озаглавленной «Три версии предательства Иуды», я полагаю, можно будет проследить опосредованное влияние последнего из них.
Фунес, чудо памяти
Я его помню (я не вправе произносить это священное слово, лишь один человек на земле имел на это право, и человек тот скончался) с темным цветком страстоцвета в руке, видящим цветок так, как никто другой не увидит, хоть смотри на него с утренней зари до ночи всю жизнь. Помню его бесстрастное индейское лицо, странно далекое за белеющей сигаретой. Помню (так мне кажется) его тонкие руки с гибкими пальцами. Помню рядом с этими руками — мате с гербом Восточного берега, помню на окне желтую циновку с каким-то озерным пейзажем. Отчетливо помню его голос — неспешный, неприязненный, с носовым тембром, голос исконного сельского уроженца, без нынешних итальянских свистящих. Видел я его не более трех раз, последний — в 1887 году… Я нахожу очень удачным замысел, чтобы все, кто с ним встречался, написали о нем; мое свидетельство, возможно, будет самым кратким и наверняка самым скудным, однако по беспристрастию не уступит остальным в книге, которую вы издадите. Будучи жалким аргентинцем, я неспособен расточать дифирамбы — жанр обязательный в Уругвае, когда темой является уругваец. «Писателишка», «столичный франт», «щелкопер»! Фунес не произнес этих оскорбительных слов, но для меня совершенно очевидно, что в его глазах я был представителем этого ничтожного сорта людей. Педро Леандро Ипуче писал, что Фунес был предшественником сверхчеловека: «Некий самородный, доморощенный Заратустра»; спорить не стану, но не надо забывать, что Ипуче — его земляк из Фрай-Бентоса и страдает неисправимой ограниченностью.