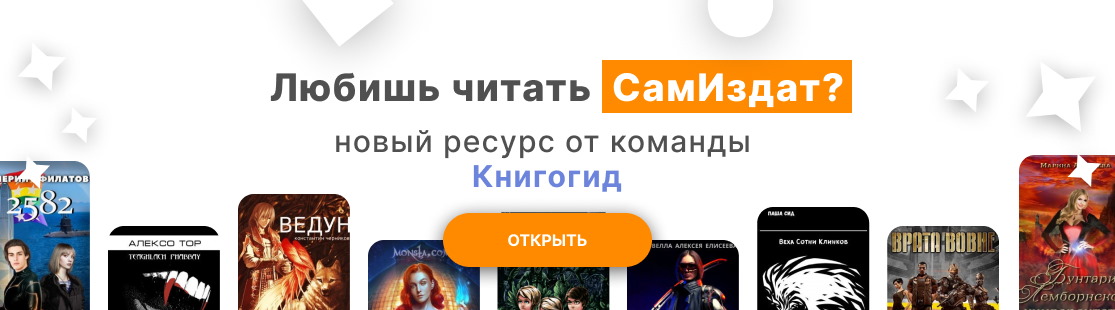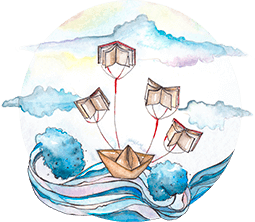Читать онлайн «По поводу похорон Н. А. Добролюбова»
Автор Иван Панаев
Иван Иванович Панаев
По поводу похорон Н. А. Добролюбова
* * *
С лишком тринадцать лет назад тому, 29 мая 1848 года, по Лиговке к Волкову кладбищу тянулась бедная и печальная процессия, не обращавшая на себя особенного внимания встречных. За гробом шло человек двадцать приятелей умершего, а за ними, как это обыкновенно водится на всякого рода похоронах, тащились две извозчичьи четвероместные колымаги, запряженные клячами… Это были литературные похороны, не почтенные, впрочем, ни одной литературной и ученой знаменитостью. Даже ни одна редакция журнала (за исключением редакции «Отечественных записок» и только что возникшего «Современника») не сочла необходимым отдать последний долг своему собрату, который честно всю жизнь отстаивал независимость слова и мысли, всю жизнь энергически боролся с невежеством и ложью… Из числа двадцати, провожавших этот гроб, собственно литераторов было, может быть, не более пяти-шести человек, – остальные принадлежали к людям простым, не пользовавшимся никакою известностью, но близким покойному… Ни одного постороннего человека добровольно не было на этих похоронах, только два или три какие-то неизвестные появлялись и на пути к кладбищу, и в церкви при отпевании, и на могиле при опускании гроба. Чего хотели они, чем могли возбудить их любопытство эти бедные похороны?. .
Когда покойника отпели, друзья снесли гроб его на своих плечах до могилы, которая уже до половины была наполнена водою, опустили гроб в воду, бросили в него по обычаю горсть земли и разошлись молча, не произнеся ни единого олова над этим дорогим для них гробом.
После возвращения с кладбища начались рассуждения о памятнике, о необходимости обеспечить семейство покойного и так далее, – открылась подписка… Все говорили так горячо, у всех голоса дрожали, у всех были слезы на глазах! Казалось, в эту минуту все готовы были пожертвовать для этого половиной своего состояния или отдать половину своих трудовых денег… И во всем этом было столько искренности!
Но мы обыкновенно вспыхиваем так же легко и быстро, как легко и быстро охлаждаемся (здесь я разумею уж не одних друзей покойного, а вообще всех русских людей).
Мы, друзья его, еще не успели сносить обувь, в которой шли за его гробом (я был также из числа двадцати), человека, поддерживавшего между нами разумную связь и осмыслившего наше существование, как наш энтузиазм к его памяти уже совершенно остыл и мы потеряли даже след к его могиле…
Шли годы. Сбившись с прямого пути, погружаясь более и более в изящную пустоту жизни, путаясь в частных и личных мелочах, поддерживая, однако, втихомолку свои авторитетики дружбою с Белинским, имя которого мы не решались произносить громко, – мы и не заметили, как подошло к нам новое литературное поколение с горячею верою в будущее, которую мы давно утратили, с твердыми убеждениями и с смелым словом. Оно во всеуслышание произнесло имя Белинского, которое в течение с лишком семи лет не упоминалось в литературе.
При этом мы, немного смущенные и даже несколько оскорбленные тем, что нас предупредили люди посторонние, также закричали: «Да, Белинский! Белинский!» и начали объяснять наши дружеские связи с покойным, намекать на нашу близость с ним, чувствуя, что только этими намеками мы еще можем несколько поддержать себя в общественном мнении. Затем множество почтенных господ профессоров и академиков, – которые при жизни Белинского едва подозревали о его существовании или, зная его, избегали с ним встречи, приходили в ужас от его статей и в угоду тогдашним литературным знаменитостям отзывались о нем с презрением, – стали теперь упоминать о нем с весьма лестною для памяти покойного похвалою и даже как будто с некоторым чувством. Эти господа, вооружась именем Белинского (бедный Белинский!), его авторитетом, пробовали было преследовать молодое, ненавистное для них, поколение… «Куда вы идете? – кричали они: – что вы делаете? Никогда Белинский не допустил бы того и того»; или: «если бы Белинский встал из гроба, он бы отвергнул с негодованием то и то» – и так далее.