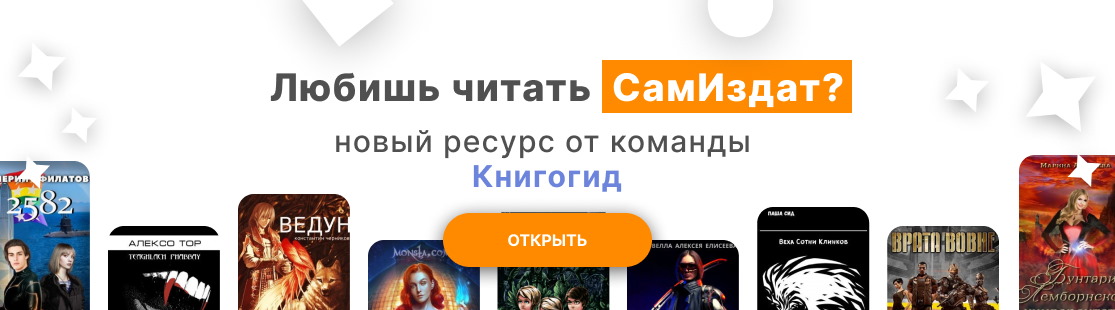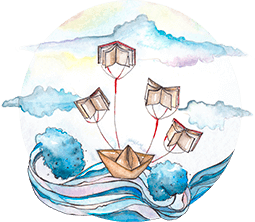Читать онлайн «Нежданно-негаданно»
Автор Валентин Распутин
Валентин Распутин
Нежданно-негаданно
© Распутин В. , 1973–1997
© Курбатов В. , вступительная статья, 1998
© Бирюков Л. , рисунки, 1998
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2008
Правда памяти и память правды
Я читал эту повесть и эти рассказы в разные годы и в разные дни. И дома, в Пскове, за привычным столом, и в Москве, в редакционной беготне, когда до выхода рассказа в журнале еще долго и хочется прочитать скорее, и в деревне, когда по странице нет-нет пробежит алый, меньше типографской точки паучок или заполошно прострочит гусеница, испуганная белизной, торопливо свесится с края страницы, ища опоры, как дети, слезая с лестницы, ищут пяткой следующей ступеньки, и облегченно вздохнет в траве. А «Прощание с Матёрой» и вовсе перечитывал не однажды в разных контекстах. И опять убеждался в старой-престарой и оттого уже почти неслышной истине, что книги живут как люди и в разный час как будто открываются на разных страницах, так что порой даже остановишься в растерянности – да как же я пропустил это тогда или почему не понял.
Это душа растет «не ровно» и не во все стороны одновременно, завися и от числа лет читателя, и от опыта, и от того, чем в этот час живет история. А уж сегодня история так история! Не знаю, как в остальных странах, а у нас, по-моему, и самый беспечный, одним днем живущий человек, и легкодумный школьник чувствует, что кончается не только век и тысячелетие, но и сама привычная тысячелетняя Россия, переходя в совсем новое, неведомое качество. Такие пороги всегда тревожны.
Человек отчетливо чувствует закрывающуюся за прежней историей дверь, но, как тот же нащупывающий ступеньку ребенок, не знает, куда он шагнет после.Концы слышны хорошо, а начала неразличимы. То, с чем мы прощаемся, понятно и близко. То, перед чем стоим, – пугающе и опасно. Но идти надо, и потому хочется осмотреть оставшееся позади с особенной заботой, чтобы продержаться на самом прочном из прошлого хоть самое первое время, а там уж будет видно – авось история сама догадается, что она жива, пока памятлива и пока растет с естественностью дерева, без тимирязевских прививок европейских бананов к русской картошке. Как ни одна нация близкие к природной полноте и наследованное™ жизни, мы вместе с тем, как ни одна же нация, податливы на всякую новость и легки в разрушении своих оснований. Это мучило русскую мысль, совершившую еще не всегда осознанные миром психологические открытия, сродные открытиям географическим. Это волновало и великую русскую литературу последнего времени, ту ее ветвь, которую еще недавно называли «деревенской», хотя ее резоннее было бы назвать национальной в самом глубоком природном и генетическом смысле. Тут сама русская природа устами лучших своих детей высказывала себя с доверчивой искренностью и удивительной глубиной. Это была подлинно «родная речь», как, бывало, хорошо назывались школьные хрестоматии.