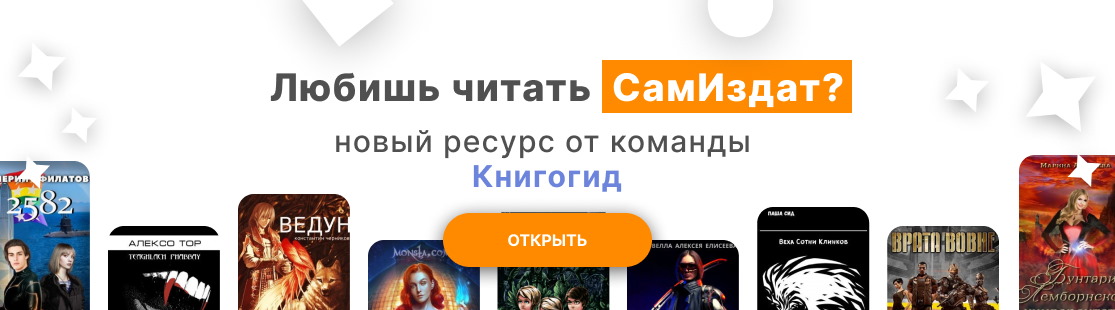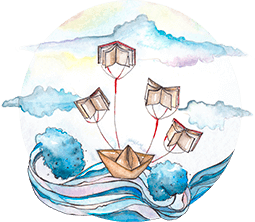Читать онлайн «Мозес. Том 2»
Автор Константин Маркович Поповский
Константин Поповский
Мозес. Том 2
Книга вторая. Разорители ульев
68. Тень Машиаха
Возможно, именно сознание тяготеющего над ним проклятья, неизбежность которого была столь очевидна, столь реальна, столь непреодолима, – во всяком случае, для внутреннего зрения самого рабби Ицхака – возможно, что именно это сознание и придавало его манере держаться то неуловимое очарование, – невозможную смесь собственного достоинства, свободы и, вместе с тем, деликатности и искреннего внимания к собеседнику, – которое так редко встречается в жизни, но которое иногда можно наблюдать у смертельно больных, уже перешедших границы отчаянья и оставшихся один на один со своей верой, – или тем, что привычно, чаще не задумываясь, называют этим словом.
Невыносимость павшего с неба приговора могла легко раздавить и искалечить, но она же, порой, была способна навсегда избавить тебя от страха, освободив от пут повседневности и окунув вдруг в ничем не замутненную свободу, возвращая то изначальное бесстрашие, о котором ничего не рассказывали поздние комментаторы, но чей голос можно было расслышать в рассказах Брейшит о патриархах или в писаниях малых пророков, не говоря уже о книге Иова, неизвестно каким чудом затесавшуюся в Канон и, наверное, только благодаря этому избежавшей забвения.
Так раненный и загнанный охотниками дикий зверь вдруг поворачивал свой бег в сторону своих преследователей, готовясь к последнему и яростному прыжку, позабыв о боли и инстинкте самосохранения, чтобы принять смерть или победить. Да и что, собственно, было терять тому, кто принял свою отверженность, как последнюю очевидность, дальше которой уже некуда было идти и нечего было искать? Тому, кто оказался вдруг отброшенным так далеко, что даже сама эта отброшенность, казалось, утратила признаки какой бы то ни было достоверности, – словно тысячу раз повторившийся, знакомый до последней детали сон?
Однажды, – кажется, это было в самой середине пятидесятых, где-то сразу после Суэцкого кризиса, – отец пригласил его в свой кабинет.
Был вечер, и настольная лампа под зеленым стеклянным абажуром на его столе явно лгала, свидетельствуя своим мягким светом о прочности бытия и незыблемости установленного когда-то порядка.
– До сих пор помню выражение его лица, – сказал рабби Ицхак, улыбаясь одними уголками губ. – Оно было такое, словно ему предстояло броситься в одежде в ледяную воду или увидеть на своей тарелке кусок свинины.
– Я много думал, прежде чем решился поставить тебя в известность по поводу некоторых фактов, связанных с нашей семьей, – произнес он, усаживая Ицхака в свое кресло и оставаясь стоять рядом, упершись ладонями в край стола. Пальцы его нервно барабанили по отполированной поверхности сборной столешницы.