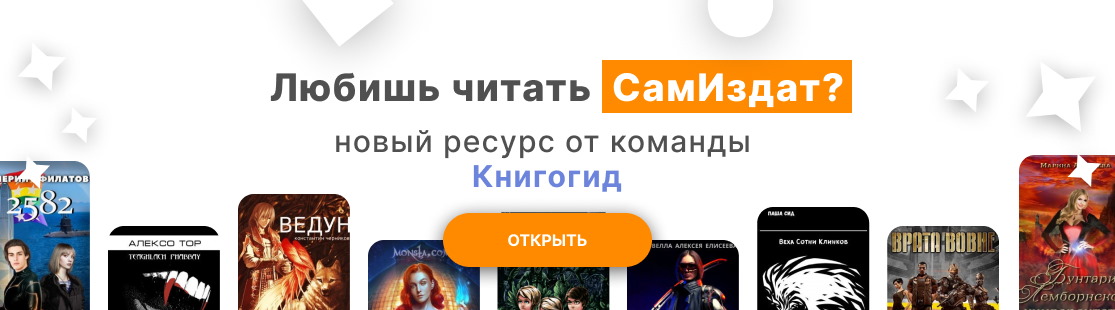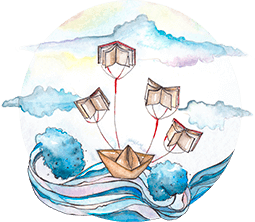Читать онлайн «Деление на ночь»
Автор Кремчуков Евгений
Григорий Аросев, Евгений Кремчуков
Деление на ночь
Меня искали, но не нашли.
Часть первая. Дневник путешествия в август
Пятый персонаж – вот кто всегда занимал тебя на гравюре Дюрера. Не Всадник, держащий свой прямой и бестрепетный путь долиной смертной тени. Не сам коронованный червями и змеями Господин Смерть, повелитель земель сих, хвастливо демонстрирующий герою инструмент своего могущества. Не пучеглазый Искуситель. Не подневольный конь, направляемый непреклонной рукой. Взгляд твой всякий раз притягивал к себе бегущий за хозяином пёс – символизирующий правду и верность, как поясняет любой комментарий к первой и, возможно, самой известной из трёх мастерских гравюр великого немца. Когда вы ездили с Верой в Царское и полдня гуляли по парку (какое было солнце, солнце вашего Петербурга одиннадцатого года!. . ), ты нарочно отвёл её к дюреровскому Всаднику и долго, помнишь, ей об этом рассказывал. Тебе любопытно смотреть на эти волшебные картинки отсюда, из будущего, где ты уже знаешь, чем всё закончилось (и, прежде всего, знаешь, что всё закончилось), слушать того – другого – себя в собственном воспоминании и воображении. Вот вы стоите вдвоём, обнявшись, перед скульптурой в переполненном светом летнем парке – он совершенно безлюден и бездвижен, отчего кажется, будто вы стоите с ней внутри фотографии, и ты рассказываешь, рассказываешь. Сейчас ты скептически решил бы, что, пожалуй, перегнул по обыкновению палку со своим интеллектуальным занудством. Туманцева, например, не преминула бы прервать твою увлекательную болтовню какой-нибудь легкомысленной своей ерундой, но Вера слушает очень внимательно, а потом спрашивает:
– Хочешь, назовём её?
– Кого? – ты даже не понимаешь сначала, о чём она говорит.
– Собаку, – улыбается. – У неё же нет имени, Лёш, так пусть будет. По нашему с тобой уговору, паролем нашим, маленькой тайной.
Обернувшись отсюда, из первого августа шести с лишним лет спустя, разглядывая все сохранённые в альбоме памяти картинки (странные это снимки – пустоши прошлого), раскапывая там себя, понимаешь, что почти всегда старался избегать любого выбора. Принимал то, что приносила из грядущего река времени, и то, что протягивала в настоящем рука дающего. Это проще простого, как у пса, следующего за своим хозяином через долину смертной тени. В щенячьем возрасте выбран ты, и выбора у тебя никакого дальше нет. Не потому что несвободен, о, не потому. Ни сбруя, ни другая какая упряжь, как у брата-коня, не сдерживает твоих движений.
Но внутри тебя самого не существует иного образа действия, кроме того, чтобы следовать за тем, кем ты выбран. Только вот за кем же – безымянный или поименованный – следуешь ты, неведомый ведомый?Вот, кстати, вспомнилось. «А что, разве у меня есть выбор?» – любимый вопрос Туманцевой. Хотя для неё это вообще не звучало как вопрос. Тот (хотя бы) предполагает ответ, а упрёк не предполагает ничего, кроме обиды. Ей, кажется, самой неосознанно нравилась эта её позиция кредитора по отношению ко всей остальной Вселенной. А по отношению ко мне – не считая первого, может, полугода нашей супружеской жизни – Лена выступала с позиции, как это говорят, обманутого вкладчика. Что бы я ни предлагал, о чём бы ни просил её, завершая свою речь дипломатичным «согласна?», «что, разве у меня есть выбор?» – слышал я в ответ. Парадоксальным образом решать самой ей ничего не хотелось, однако любое моё решение вызывало в ней какое-то принципиальное отторжение, которое она маскировала своим смиренным что-разве-у-меня-есть-выбором. Этот парадокс, механизм её упрёка, лежал на поверхности, был совершенно очевиден, но она не могла в нём сознаться – ни мне, ни себе самой. Сначала я реагировал на такое раздражённо. Слово за слово – она включала режим скандала, тонкими иголками кололи сердце претензии и упрёки. Еленины и, да, мои. Мы мирились, конечно, более или менее легко, но все эти взаимные неудовлетворённости слово к слову, лист к листу сознание подшивало в свою воображаемую ведомость усталости. Потом – с мудростью, как мне казалось, зрелых лет (сколько нам было, четверть века, плюс-минус) – пытался найти какие-то компромиссы. Ну, скажем, любого рода бытовые выборы: что приготовить на ужин, какой посмотреть фильм, в какой на этой неделе пойти театр, какой именно сорт пельменей купить в магазине – всё это, хорошо, предоставлялось решать ей; вопросы же более серьёзные, раз уж они, куда денешься, раньше или позже возникали, оставались за мной. Так я предлагал. Или предлагал наоборот: серьёзные вопросы будут за ней, простые на мне – для меня не было в том абсолютно никакой разницы. Но ничего не помогало – ни разговоры, ни разъяснения, никакие попытки что-то изменить в способе отношения ко мне, в наших отношениях. Сменившая раздражение мудрость сменилась в свою очередь безразличием. Был пыл, да весь остыл.