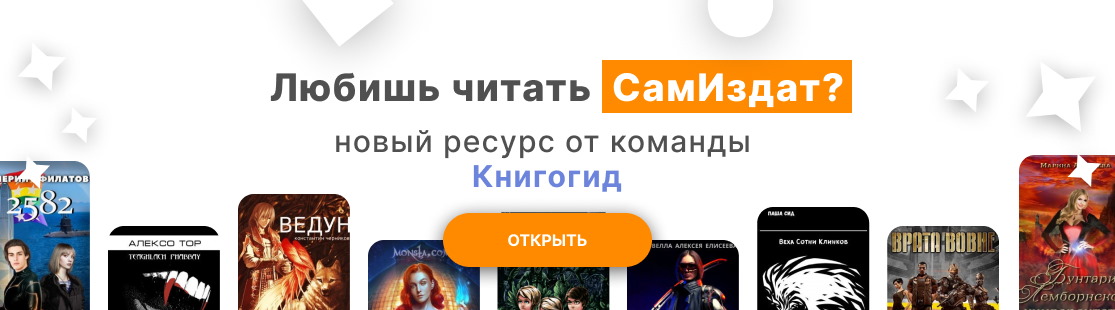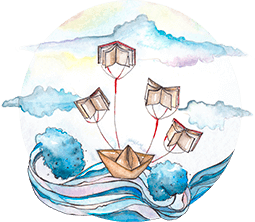Читать онлайн «Последнее отступление»
Автор Исай Калашников
И. Калашников
Последнее отступление
Художник А. А. Черномордик
ИЗДАТЕЛЬСТВО • СОВЕТСКАЯ РОССИЯ •
Москва — 1965
Глава первая
Три года назад семейский мужик Захар Кузьмич Кравцов, по прозвищу Лесовик, поцеловал свою бабу Варвару в соленую от слез щеку, прижал к груди вихрастую голову сына Артемки и уехал защищать «веру, царя и отечество». Окопная грязь, холод, смерть товарищей и ожидание своей неминуемой гибели — все это довело Захара до отупения. Равнодушный ко всему на свете, измученный до крайности, он тянул солдатскую лямку, словно заморенная лошадь скрипучую телегу по грязной дороге. Подкошенные смертоносным металлом падали однополчане Захара. А он оставался цел. Но даже не удивлялся и не радовался, что остается жив и невредим. И был он как бы без сознания. Бегал, стрелял, окапывался, позже вместе со всеми сдирал погоны с офицеров и опять бегал, стрелял, кричал «ура», ел солдатские сухари…
В себя он пришел, когда по руке ударило что-то тупое, а из рукава поползли красные струйки. В госпитале вдруг почувствовал, что хочется домой, в родимый Шоролгай, к ласковой Варваре, к сыну… Впервые за три года затосковал по-настоящему.
Рука его, несмотря на все старания врачей, висела плетью, пальцы едва шевелились. Ему выписали дорожное довольствие и отправили домой.
До Верхнеудинска Захар добирался в поезде вместе с потоком солдат, покинувших окопы, а в городе встретил шоролгайского купца Федота Андроныча Гущина, и тот охотно согласился довезти солдата до дому.
Стояла поздняя осень. Засохли травы на полях, опали с кустов тальника листья. Мужики давно свезли с полей снопы, многие уже, наверное, и отмолотились, а снегу все еще не было. Сопки, покрытые летом зеленью, теперь посерели, их как будто присыпали пеплом. На косогорах чернели пробитые домашней скотиной тропинки. Они начинались у речки, подымаясь в гору, разветвлялись. Издали тропинки напоминали безлистые ветви деревьев, нарисованные черным карандашом на серой бумаге.
Меж сопок змеилась дорога с глубоко выбитыми колеями. Пара сытых купеческих лошадей с усилием тянула тяжелую повозку.
Захар сидел за спиной у Федора Андроныча. Зябко кутаясь в потертую шинель, он смотрел на желтое жнивье полей, на оголенные распадки, на знакомые повороты дороги, и его худое, заросшее колючей щетиной лицо становилось светлее.
Дорога перехлестнула через бугор. Внизу Захар и Федот Андроныч увидели свое село. Лучи заходящего солнца красноватым блеском играли на окнах. Внутри домов, казалось, полыхало пламя.
Лошади побежали быстрее.
— Слава те господи! Кажись, приехали. — Купец вздохнул и размашисто перекрестился. — Беда как неспокойна купеческая жизнь.
Захар посмотрел на широкую спину купца, на короткую, бурую, давно не мытую шею. Богат, черт, а пропах навозом и потом, как последний мужичишка. И зипун носит в заплатах, наверно, еще отцовский, по наследству достался.
От батьки своего, Андрона, Федотка, почитай, только зипун и получил. Не зарный был его родитель на работу. Мужики горбатились за сохой, а Андрон в прохладном амбаре потягивал самогон. Напившись, разговаривал сам с собой и пел печальные песни. По слухам, к пьянству Андрон пристрастился после того, как, не смея перечить воле родителей, женился на глупой, некрасивой, засидевшейся в девках дочери богатого никольского мужика.