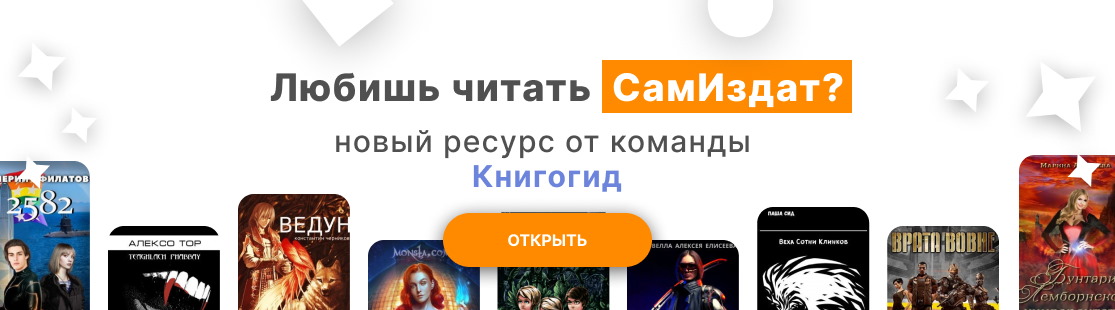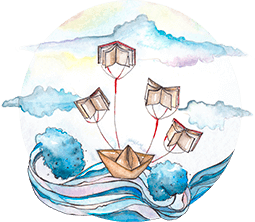Читать онлайн «Перехваченные письма»
Автор Анатолий Вишневский
Анатолий Вишневский
Перехваченные письма
С какою рожею можно соваться с выдумкой в искусство? Только документ.
Хорошее произведение всегда имеет что-то от перехваченного личного письма.
Предисловие осветителя
9 октября 1935 года в Париже при не вполне выясненных обстоятельствах скончался поэт Борис Поплавский. Через несколько месяцев, в феврале 1936 года, у Дины и Николая Татищевых, друзей Поплавского, родился второй сын. Его крестной матерью стала мать покойного поэта Софья Валентиновна Поплавская. Мальчика назвали Борисом.
60 лет спустя, когда уже не было в живых ни матери Бориса, ни его отца, ни их родственников и друзей, ни старшего брата Степана, ни пса по кличке Утнапиштим, – одним словом, никого из тех, кто окружал колыбель новорожденного Бориса Татищева, он побудил человека, называющего себя Осветителем, вникнуть в историю его родителей и других людей, с которыми они были тесно связаны. Он считал ее интересной и был прав.
Но двадцатый век подошел к концу, и пришло время, наконец, распрощаться с этой историей, которая тянется уже чуть не сто лет. Странные мужчины, странные женщины, странные обстоятельства, странная, бесконечно длящаяся привязанность людей и событий к тоже очень странной стране. Все это надо вспомнить один раз – и навсегда забыть, перевернуть страницу, начать с нового листа. В новом тысячелетии.
Ха! Легко сказать «все вспомнить». Все-все? Все пережить, перечувствовать, перестрадать, пересказать?. . Так на это же нужно еще сто лет. И надо ли умножать сущности без надобности? Все уже было и пережито, и рассказано, и даже записано – и какими перьями! И что мы добавим, еще сто лет прокопавшись в архивах чужих судеб? И кому нужно это занудство?
Нет, если что мы и можем сделать, так это выхватить на мгновение ярким лучом из погружающегося во мрак прошлого отдельные куски и кусочки, дать им промелькнуть на экране нашего воображения, вспыхнуть и исчезнуть.
На то и нужен осветитель, éclairagiste, со своим лучом, возникающим где-то высоко над галеркой, пронзающим безмерное пространство огромного зрительного зала и, достигнув сцены, втыкающимся в нечто, слабо копошащееся в потемках истории. «Далеко в глубь, – писал один из героев этого повествования, – 10 дней, там ночь, как очень глубоко в воде; как быстро гаснет жизнь». Так то дни, а тут годы, годы, десятилетия, целые эпохи. Все утонуло, все темно.
И вдруг – луч. Он втыкается (я уже сказал) во что-то, вяло копошащееся, а то и вовсе неподвижное – там, в темноте прошлого, и оно оживает, да-да, оживает. Что вы пыжитесь, свысока посматривая из своего двадцать первого на их двадцатый, пришедшие на ушедших? Еще неизвестно, кто живее – вы или они. Это вы у нас спросите, у осветителей.
Мы же ничего не придумываем, ничего не сочиняем. Вот перед вами повествование – я в нем ни единого слова не написал, упаси Бог. Все было написано, я только луч направил, беспощадный луч. Бывает, воткнется в какое-нибудь слежавшееся дерьмо, а ему как раз и нельзя на свету быть. В темноте ведь не различишь, где дерьмо, а где пуп земли, вождь народов или там великое историческое событие, о котором и думать нельзя без преклонения. А луч пал, и видно: дерьмо.