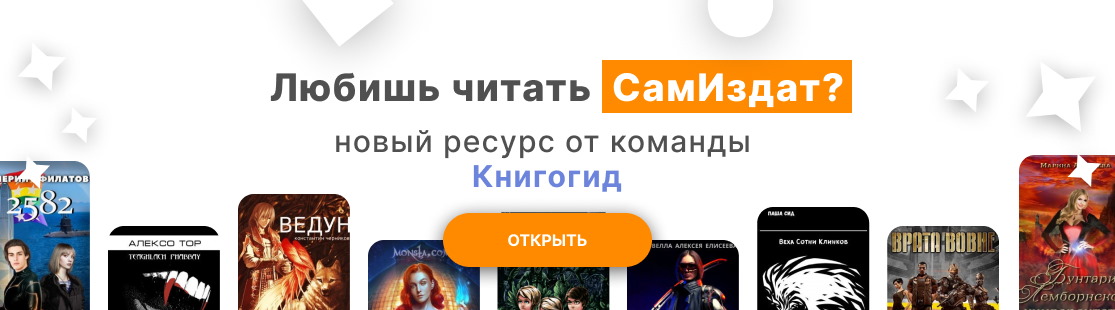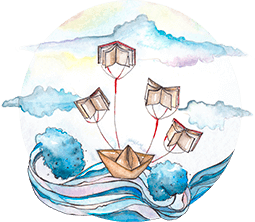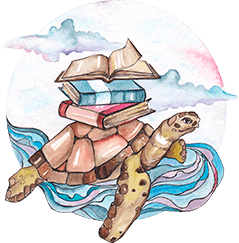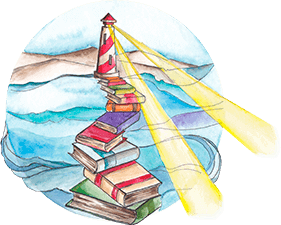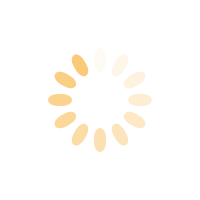Читать онлайн «Метод»
Автор Даниил Лектор
Нынешний выпуск МЕТОДа непосредственно продолжает и развивает тематику двух предыдущих. В редакционном введении прошлого выпуска ставился вопрос о том, как мысленно представить явления, которые невозможно охватить непосредственным взглядом через прямое восприятие наличной действительности, и в то же время не уйти в чистое умозрение, а опираться на конкретный опыт. О созидающей функции научного мышления и о способности вообразить сам предмет изучения шла речь в первом выпуске МЕТОДа. Уже там появилась целая рубрика «Нация как социальная воображаемость». Теперь данной категории посвящен весь этот выпуск.
Чем объясняется наш интерес к научному воображению и социальной воображаемости? Воображение – основное средство нашего познания, на основании которого строятся все остальные вплоть до изысканных инструментов многомерного моделирования. Социальная воображаемость – важнейшая сторона того, что мы изучаем. Это не только ожидания, намерения, замыслы, планы людей, но и «серая зона» между свершающимися фактами общественной жизни и тем, что осуществляется лишь частично. Более того, сами свершившиеся факты образуют свои смысловые версии, переходя в плоскость воображаемости. Джон Остин прекрасно показал это в своем замечательном анализе трех способов пролить чернила, который мы перепечатываем в данном выпуске ежегодника.
Существует немало различных трактовок способности людей вообразить смыслы, уловить понятия, придать своему мышлению отчетливую ясность. Начать следовало бы с Платона, заговорившего об идеях и эйдосах – наглядном ви́дении наших предельных представлений. Можно было бы вспомнить о других попытках придать понятиям и смыслам образную конкретность и осязаемость от Аристотеля и стоиков до Канта и зачинателей семиотики. На некоторые моменты обращают внимание В.М. Межуев, В.В. Лапкин, Л.В. Сморгунов, Ю.И. Лукашина и другие авторы МЕТОДа.
Само слово