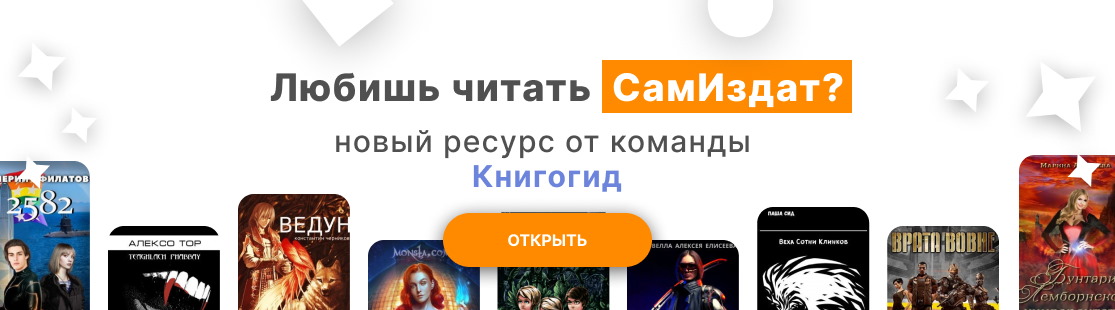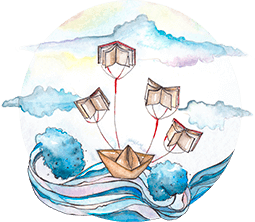Читать онлайн «Врата рая»
Автор Ежи Анджеевский
Ежи Анджеевский
Врата рая
Сколь могуче и всеобъемлюще было религиозное воодушевление, свидетельствует удивительный крестовый поход детей, который незадолго до смерти Иннокентия III (1213) всколыхнул всю юго-восточную Францию и даже некоторые немецкие области. Один пастушонок объявил, будто духи небесные возвестили ему, что святой гроб может быть освобожден лишь невинными и малолетними. Мальчики и девочки в возрасте от восьми до шестнадцати лет покидали родные места, собирались толпами и устремлялись к берегам моря. Много их погибло от истощения и лишений, многие стали добычей алчных торговцев, которые заманивали к себе детей, а потом продавали в рабство.
На время всеобщей исповеди прекращены были всякие песнопения, и вот уже третий день всеобщей исповеди подходил к концу, а они все шли по безбрежным лесам вандомского края, шли тесно сбитой толпой, и ни пенья не было слышно, ни звона колокольчиков, только монотонное шарканье двух с лишним тысяч ног да порой поскрипывание телег, которые замыкали поход детей, везя тех, кто обессилел от истощения или не мог идти на немилосердно израненных ногах, дорога посреди старой пущи, казалось, не имела ни начала, ни конца, на исходе была уже пятая неделя с того предвечернего часа, когда Жак из Клуа, прозванный Жаком Найденышем, а в последнее время иногда называемый Жаком Прекрасным, покинул свой одинокий шалаш над пастбищами, принадлежащими деревне Клуа, и сказал четырнадцати деревенским пастухам и пастушкам: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы, противу бездушной слепоты рыцарей, герцогов и королей, дети христианские не оставили милостью своей и милосердием город Иерусалим, пребывающий в руках нечестивых турок, ибо скорее, нежели любая мощь на суше и на море, чистая вера и невинность детей величайшие могут сотворить деяния, их было четырнадцать, отправившихся в путь той весенней ночью, под звон колоколов и плач матерей, но теперь, когда они углубились в лес и уже три дня как продолжалась всеобщая исповедь, очищающая ото всяческих грехов и проступков, было их много больше тысячи, далекое солнце равнодушно горело за пределами царства тени, влаги и тишины, отдаленным своим сверканьем сгущая черноту могучих стволов и суков, листвы и веток, на заре, когда свет, еще слабый и робкий, начинал медленно возноситься над царством зелени и безмолвия, ранние птахи подымали крик в лесной чащобе, верещали они и после наступления сумерек, а ночами, когда дети шли, чтобы не прерывалось время исповеди, ночами, наполненными монотонным шарканьем двух с лишним тысяч босых ног, из темноты к ним неслось жалобное уханье филинов и беззвучно колыхались в темноте черные кресты, образа и хоругви, сейчас близился к концу третий день всеобщей исповеди, старый человек, который три дня исповедовал детей, был большим и грузным мужчиной в бурой рясе монаха-минорита, пока длилась всеобщая исповедь, не Жак, а он шел впереди, шел медленно, поступью очень усталого человека, неуклюже припечатывая землю тяжелыми отекшими ступнями, дети поочередно, начиная с самых младших, подходили к нему и, шагая рядом, признавались в своих мелких, еще невинных грехах, старый человек думал: если юность не спасет этот мир от гибели, ничто больше не сумеет его спасти, потому-то все надежды и чаяния я возложил на этих детей, стремящихся к цели, которая не под силу ни им, ни мне, и вообще никому на свете, Боже, пребудь с этими невинными детьми, я, не чуждый никакого греха, я, изведавший в полной мере всяческие заблужденья, я, которому, несмотря на монашеское облачение, и дряблую кожу, и увядшие губы, и стопы, являющие собой оскорбление радости и гармонии, равно знакомы дно темных бездн и призрачный блеск неисполнимых желаний, я, великий и всемогущий Боже, не допусти, прошу, чтоб когда-нибудь сбылось то, что привиделось мне в ужасном сне той ночью, когда я возжелал служить этим невинным детям, я увидел во сне мертвую, спаленную солнцем пустыню, взгляни, — послышался рядом бесстрастный голос, — вот Иерусалим жаждущих и алчущих, перед тобой высятся его священные стены и башни, ты видишь райские врата, ибо врата рая воистину существуют лишь на мертвой, спаленной солнцем земле пустыни, лжешь, — ответил я, — пустыня это только пустыня, пустыня это могила жаждущих и алчущих, — возразил тот же самый бесстрастный голос, — в пустыне высятся священные стены и башни Иерусалима, на ее мертвой, спаленной солнцем земле открываются перед жаждущими и алчущими гигантские врата рая, помню, я хотел еще раз сказать: лжешь, пустыня это только пустыня, но внезапно понял, что незримого голоса подле меня уже нет, зато увидел двух юных отроков, одиноко бредущих пустыней, Боже, — подумал я, — неужто среди многих тысяч они единственные уцелели, Боже, сделай, чтобы не было так, и, едва я это подумал, старший, который вел за руку младшего, споткнулся и упал, иди, — сказал он, из последних сил поднимая голову — я немножко отдохну, скоро начнет светать, я видел его руки, глубоко зарывшиеся в сухой песок, и темноволосую голову, борющуюся с последней, смертельной усталостью, иди, — повторил он, — пока еще темно, но сейчас рассветет, и ты увидишь Иерусалим, тогда младший, светловолосый и хрупкий, спросил: а ты со мной не пойдешь? иди, — сказал старший, а я видел, что голова его бессильно падает, губами он уже касался песка, — иди вперед, прямо вперед, уже начинает светать, сейчас ты увидишь стены и башни Иерусалима, иди, я отдохну немного и тебя догоню, тогда младший зашагал послушно вперед, и по его движеньям я сразу понял, что мальчик слеп, Боже, — подумал я, — пробуди меня от этого сна, я все еще не видел лица слепого, он шел один средь мертвой, спаленной солнцем пустыни, неловкими руками ощупывая пустоту, словно искал в ней опору, а другой, мертвеющими уже губами касаясь песка, еще успел сказать: светает, я вижу громадные стены и ворота Иерусалима, позолоченные светом, который не знаю откуда исходит, то ли от самих стен, ворот и башен, то ли от золотого сиянья, разливающегося в воздухе и в небе над ними, Боже, не допусти, чтоб когда-нибудь сбылся этот ужасный сон, я уже и проснулся, и еще был во власти сна, когда маленький светловолосый слепец, продолжая идти вперед и касаясь руками пустого воздуха так, точно настоящих, касался стен, обратил ко мне лицо, и тогда, нет, не тогда, а сразу после той мучительной ночи, когда, обремененный всеми грехами и горячей, чем когда-либо, жаждущий искупленья грехов, я вышел навстречу крестовому походу детей и сказал: милые мои дети, избранные Богом для обновления несчастного рода человеческого, раз уж вы стремитесь к столь высокой цели, очиститесь от своих невинных грехов, да настанет для вас в преддверье далекого пути час всеобщей исповеди, вот тогда я увидел перед собой лицо одинокого слепца средь мертвой, спаленной солнцем пустыни, и, не допусти этого, великий всемогущий Боже, то было лицо Жака из Клуа, а сейчас близился к концу третий день всеобщей исповеди, последними исповедовались дети из Клуа, которые шли во главе похода, среди них был Жак, был Алексей Мелиссен, единственный не из Клуа родом, была Бланш — дочь колесника, был Робер — сын мельника, была Мод — дочка кузнеца, Жак думал: слыша каждое слово, которое он произносил, лежа возле меня в темноте, я впервые увидел громадные стены и ворота Иерусалима, позолоченные светом, который исходил не знаю откуда, то ли от самих стен, ворот и башен, то ли от золотого сияния, разливавшегося в воздухе и в небе над ними, идущий рядом с Жаком Алексей Мелиссен думал: я люблю тебя, хотя не знаю, рождена ли моя любовь только мной и тобой или ее пробудил из небытия тот, кого уже больше нет, узы ли, связующие нас с тобой, эта любовь или отблеск иной любви, той, что первое свое слово успела вымолвить только раз, а затем канула в холод и шум смертоносных вод, чтоб уже никогда не претвориться в тело и слово, не знаю, откуда взялась моя к тебе любовь, но где б ни почерпнула она свое начало, откуда бы ни пришло наваждение, я никогда не перестану тебя любить, ибо, если я существую, то лишь затем, чтобы, нелюбимый сам, всей душою и плотью своей утверждать потребность в любви, Бланш думала: скорей бы уж наступила ночь, ночью он подойдет ко мне, когда всех вокруг сморит тяжелый сон, скажет негромко: пойдем, и я встану и пойду за ним, мы будем идти крадучись, чтоб никого ненароком не разбудить, пока наконец не окажемся в таком месте, где вокруг будет пусто и мы будем совсем одни, мы разденемся молча, так как ни мне, ни ему не нужны слова, я знаю, о чем он думает, и он знает, о чем думаю я, он войдет в меня стремительно и грубо, наслаждение соединит наши тела, мы ж, наслаждаясь, будем думать в телесном слиянии: я, что не он дарит мне блаженство, он, что не мне его предназначает, Робер думал: скоро стемнеет, ночь будет холодной, и на землю ляжет роса, если до наступления темноты мы не дойдем до какой-нибудь деревни, придется ночевать под открытым небом, в лесу, ночь будет холодной и Мод продрогнет, если б она любила меня, я бы теплом своего тела ее согревал, она могла бы спать безмятежно в моих объятьях, любовью заглушить можно даже голод, Мод думала: добрый милосердный Боже, Господи Иисусе, к чьему далекому гробу я иду, прости мне, добрый милосердный Боже, что к твоему гробу я иду не затем, чтобы вызволить его из рук нечестивых турок, не любовь к тебе заставила меня бросить мать и отца, не любовь к тебе повелевает идти к твоему далекому гробу, нет, иная любовь живет во мне, любовь, которой полны все мои мысли и каждая частица моего тела, а чуть позже, шагая рядом со старым исповедником, Мод говорила: вечером, перед сном, я всегда читала «Отче наш», господню молитву, которой меня научила мать, но сейчас, с той поры, как я покинула Клуа и иду вместе со всеми остальными детьми из Клуа и с другими детьми из разных других селений и городков, сейчас каждый день, перед тем, как заснуть, кроме «Отче наш», молитвы, которой меня научила мать, я читаю еще одну, и это уже только моя молитва, это, отец, молитва тяжкого моего греха, других, равно тяжких грехов я не помню и потому могу говорить об одном, наитягчайшем моем грехе, молитвой этой, повторяемой вслед за обычной, ежевечерней, я не стремлюсь умалить свой грех, так как не в силах от него отказаться, и о милосердии не прошу, так как могла бы просить о милосердии, лишь если бы знала, что найду силы отказаться от своего греха, от своей слабости, от своих греховных желаний, и все же ежевечерне перед тем, как заснуть, я повторяю эту молитву, молитву моего греха, и, лежа в темноте, говорю, но не вслух, а в мыслях: добрый милосердный Боже, Господи Иисусе, к чьему далекому гробу я иду, прости мне, добрый и милосердный Боже, что к твоему гробу я иду не затем, чтобы вызволить его из рук нечестивых турок, не любовь к тебе заставила меня бросить мать и отца, не любовь к тебе повелевает идти к твоему далекому гробу, нет, иная любовь живет во мне, любовь, которой полны все мои мысли и каждая частица моего тела, губы, руки, глаза, она во мне, моя любовь, она — это я и я — она, это она, занимающая все мои мысли, живущая в каждой частице моего тела любовь, заставила меня покинуть родительский дом, бросить, не сказав прощального слова, отца и мать, прости, добрый и милосердный Боже, что к твоему далекому гробу я иду не из любви к тебе, а связанная и переполненная иной любовью, Мод шла, опустив глаза, приноравливая свои мелкие шажки к шагам исповедника, тот шел медленно и тяжело, будто старался всякий раз, ставя на землю босые отекшие стопы, как можно крепче прильнуть к земле, ступал словно бы неуверенно и, лишь когда подошва касалась земли, исполнялся силы, позволявшей ему вновь оторвать от земли ногу, Мод подумала: он стар и устал, она шла, опустив глаза, и видела босые стопы человека, которому собиралась поверить свой грех, а еще видела свои руки, неподвижно скрещенные на груди, и белизну своего платья, неторопливо плывущего вперед, по белому скользили тени безмолвной и недвижимой пущи, Мод шла в мелькании этих теней, словно попавшись в сеть, сотканную из тени и света, но даже опутанная этой сетью, продолжала дальше идти вместе с ней, еще Мод видела свои маленькие ноги, невольно старающиеся приноровиться к усталости человека, рядом с которым она шла, готовясь признаться в своем тяжелейшем грехе, однако, хотя поблизости не было никого на расстоянии вытянутой руки, Мод чувствовала, что, подобно тому, как тени пущи и блики незримого солнца опутывают и сковывают яркую белизну ее платья, тело ее опутывает и сковывает безмолвная невидимая толпа, она знала, что прямо за ней, идущей во главе шествия, средь теней пущи и бликов незримого солнца покачиваются черные кресты, хоругви и многоцветные образа, а под ними плывет, как могучее дыхание, плотное скопище светлых и темных детских голов, слышала за спиной монотонное шарканье двух с лишним тысяч босых ног, несмотря на усталость шагающих упорно вперед, и, хотя шла, не подымая глаз, многое видела в своем добровольном плену и многое слышала в тишине, наполнившей этот предвечерний час, она видела удлиненные тени тех, кто шел прямо за ней, каждую тень отличало что-то свое, и Мод могла назвать их по именам, вот тень нарядного и богатого платья Бланш, вот зыбкая тень пурпурного плаща на плечах у Алексея Мелиссена, чуть подальше стройная тень Робера, лишь минуту спустя Мод различила между трех этих теней легкую тень Жака, она почувствовала, как сильно забилось у нее сердце, подумала: прости, добрый и милосердный Боже, что к твоему далекому гробу я иду не из любви к тебе, а связанная и переполненная иной любовью, исповедник спросил: ты засыпаешь, дитя мое, после этой молитвы? да, отец, — сказала она, — после этой молитвы я засыпаю, она думала: изо всех часов дня и ночи особенно он любил предвечерний час, шалаш, который он построил себе на краю пущи, возвышался над лугами, так что, стоя перед ним, он мог видеть все пастбище, иногда мне ужасно хотелось увидеть наше пастбище его глазами, потому что его глаза чисты, не знаю, с чем лучше всего сравнить их чистоту, просто они чисты, когда на изумрудную долину начинали ложиться первые тени, а небо наливалось багрянцем и тишиной, в траве стрекотали цикады и птицы перекликались перед сном в густом дубняке, я, не умея увидеть всего этого его глазами, видела своими: он стоял перед шалашом на холме, уперев руку в бедро, солнечный свет, заливавший его, медленно меркнул, но он терпеливо ждал, покуда последний луч не погаснет у ног, и, когда последний луч у его ног угасал, подносил ко рту ладони и посылал вперед, в бескрайний простор и тишину, гортанный клич — продолжая идти, потупясь, Мод оживляла бесплотную тень движеньем ладоней, подносимых ко рту, а молчание тени наполняла гортанным кличем, торжественно воспаряющим в небо над изумрудной долиной, устланной первыми тенями ночи, — при этом звуке со всех концов пастбища срывались пастухи и, крича похоже своими еще детскими голосами, принимались сгонять в кучу разбредшихся по лугу коров, день заканчивался, все возвращались в деревню, все уходили, только он оставался в своем шалаше, а когда однажды вечером спустился вниз, тень, которая по-прежнему сопутствовала Мод своим молчанием, потому что Мод шла, упорно не подымая глаз, тень, подобно ей опутанная сетью, сотканной из теней пущи и бликов незримого солнца, вдруг налилась почти ощутимой телесностью: он хрупок и невысок, ненамного выше меня, всегда в короткой, до колен, полотняной тунике, оставляющей открытыми ноги и шею, у него каштановые с золотистым отливом волосы, слегка вьющиеся над высоким лбом, я люблю его улыбку, которая не улыбка даже, а как бы робкое ее обещанье, его улыбка открывает передо мной Царство Небесное, всем собой он открывает Царство Небесное, я всегда могла молиться ему, как небесам, когда тень, сопутствовавшая Мод, вдруг налилась почти ощутимой телесностью, она увидела его: он был бледен той чистой и вдохновенной бледностью, которая кажется отражением особого внутреннего света, побледневший, он сходил с холма, который возвышался над пастбищем на краю леса, потом она увидела его среди пастухов, онемевших от изумления, столь странным было появленье его среди них, тогда он впервые сказал: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы, противу бездушной слепоты рыцарей, герцогов и королей, дети христианские не оставили милостью своей и милосердием город Иерусалим… исповедник сказал: кажется, дитя мое, и сейчас, когда тебе предстоит открыть душу Богу, ты больше думаешь о своей любви, нежели о том, что говоришь с Всевышним, тень Жака внезапно изменила очертанья, он поднял голову, — подумала Мод, — и посмотрел на небо, я никогда не увижу неба его глазами, никогда не узнаю, что он своими глазами видит, и сказала тихо: да, отец, это правда, сейчас, когда мне предстоит открыть душу Богу, я все равно больше думаю о своей любви, нежели о том, что должна открыть душу Богу, ты любишь свой грех? я люблю Жака из Клуа, отец, а он? я люблю его, отец, и потому не умею читать его мысли, сколько я себя помню, он рос вместе со мной и сестрой в доме моего отца, но, должно быть, всегда, сколько себя помню, я любила его, так как никогда не умела читать его мысли, я не знаю, что он думает, мне неведомы его мысли, но я знаю, что он никогда не полюбит меня иначе, чем названую сестру, в тот день, когда он наконец вышел из шалаша, а до того три дня оттуда не выходил и не откликался, сколько мы его ни звали и ни упрашивали, так вот, в тот вечер, когда он вышел из шалаша и спустился к нам, и сказал: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы, противу бездушной слепоты рыцарей, герцогов и королей, дети христианские не оставили милостью своей и милосердием город Иерусалим, пребывающий в руках нечестивых турок, ибо скорее, нежели любая мощь на суше и на море, чистая вера и невинность детей величайшие могут сотворить деянья, и, когда потом, среди мертвой тишины, он сказал: сжальтесь над Святой Землей и одиноким Гробом Господним, я поняла, что он никогда меня не полюбит, потому что Бог призвал его к великим делам и этому он отдал свое сердце, значит, ты так и не призналась ему в своей любви? когда я одна, отец, я могу вести с ним долгие, откровенные и даже дерзкие разговоры, нахожу для него наипрекраснейшие слова, но подле него мужество меня покидает, и все мысли и чувства, которые я мечтаю ему открыть, замирают во мне в тревожном молчанье, я никогда не говорила ему, что его люблю, и никогда не скажу, так как поняла, что Бог призвал его к великим делам, более важным, чем моя любовь, моя любовь принадлежит только мне, это только моя любовь, а он, избранный Богом для достиженья великих целей, принадлежит всем детям, которые послушались его зова и последовали за ним либо последуют завтра, Бог словами Жака и через него возвестил нам всем, что нужно делать, и в ту же ночь мы отправились в путь, чтобы вызволить город Иерусалим из рук нечестивых турок, мы уходили ночью под звон колоколов и плач матерей, в распахнутых настежь хлевах надрывно мычали коровы, потому что, пригнав с пастбища, мы забыли на ночь их подоить, и тогда, когда у нас, покидающих отчий дом, собравшихся вокруг Жака и готовых пуститься в далекий путь, полный тайн и неизвестных опасностей, в далекий путь, в непостижимом конце которого вырастали будто во сне громадные стены и ворота Иерусалима перед самой одинокой изо всех, какие только есть на земле, могилой, оскверненной насилием, заточенной в неволю, тогда, отец, когда у нас бешено колотились сердца, потому что только так, учащенным и взволнованным биеньем сердец, мы могли говорить о неведомом дальнем пути, открывшемся перед нами в ту нежданную ночь, тогда, среди тьмы, звона колоколов, плача наших матерей и рева изнемогающих от избытка молока коров Жак велел нам разойтись по домам, чтоб в последний раз выдоить порученных нашим заботам коров, лишь после этой последней дойки мы отправились в путь, и в ту ночь я впервые воззвала к доброте и милосердию Иисуса, моля простить меня за то, что я покинула родительский дом, мать и отца не из любви к нему, а связанная и переполненная иной любовью, Мод продолжала идти, потупясь, и ей показалось, что босым и отекшим стопам идущего рядом старого человека все трудней и трудней ступать по земле, что, соприкасаясь с землей, они задерживаются на ней дольше, чем прежде, словно это приносит необходимое им облегченье, старый человек заговорил, и его голос тоже показался ей очень усталым: дитя мое, бедное заблудшее дитя, ты веришь, что вам, неискушенным, не имеющим иного оружия, кроме вашей невинной юности, удастся совершить то, чего за последние годы совершить не сумели сильнейшие мира сего, рыцари, герцоги и короли? веришь, что вы в самом деле сумеете вызволить поруганный Гроб Господень из рук неверных? верю, отец, — сказала она, не повышая голоса, но с безмятежной уверенностью, — я верю, что Жак приведет нас в далекий Иерусалим и в один прекрасный день, не знаю, когда он настанет, может быть, через месяц, а может быть, через год, но непременно настанет, день, когда перед нами распахнутся ворота Иерусалима и мы войдем в них, чтобы уже навсегда спасти от насилья, освободить из неволи неверных могилу Христа, я верю, отец, что такой день настанет, хотя не знаю, через месяц это случится или через год, старый человек приостановился на мгновение, подумал: сделай так, милосердный Боже, чтобы никогда не сбылся мой ужасный сон, он стар и устал, — подумала Мод, — вряд ли ему хватит сил вместе с нами дойти до Иерусалима, только мы вслед за Жаком в один прекрасный день вступим в его врата, а теперь он должен меня благословить, не оставит же он меня с моей любовью, как со смертным грехом, не любовь моя — грех, а то, что только ей я могу служить, ей, а не той, высшей, любви, которой служит Жак, если старик благословит меня и простит мой грех, я останусь со своей любовью, но не во грехе, она почувствовала себя очищенной этой минутой прощения, минутой, которая еще не наступила, но вот-вот должна была наступить, и подумала, вдруг охваченная страшным волненьем: когда придет долгожданный день и перед нами распахнутся врата Иерусалима, распахнутся легко и беззвучно, потому что будет нас тысяча тысяч, и все колокола будут звонить, тогда, едва мы приблизимся к Гробу Господню, навечно избавленному от насилия и неволи, он подойдет ко мне, возьмет мою руку в свою и скажет: тебе, дорогая Мод, я обязан тем, что дети из Клуа выслушали меня и пошли за мной, ты первая поверила мне и встала рядом, ты все время была со мной, и сейчас, когда наконец свершилось то, к чему призвал Господь, я могу сказать тебе, Мод: я тебя люблю, я всегда тебя любил, Мод, вначале я любил тебя, как сестру, но давно уже люблю, как мужчина женщину, я люблю тебя, Мод, люблю только тебя, милая, светик мой, ласточка моя, глаза Мод налились слезами, и она уже не видела ни босых отекших ступней исповедника, ни бесшумно плывущих рядом отблесков и теней, ни даже собственных ног и скорее почувствовала, чем заметила движение большой и тяжелой руки, начертавшей над ее головой знак креста, отпускаю тебе, дитя мое, твои грехи, — устало произнес исповедник — и не требую покаянья, ибо кажется мне, если я хоть что-нибудь смыслю в людских делах, что твоя любовь и так тяжкий грех, да сжалится над тобой всемогущий Бог и да позволит он, чтобы Христос, ко Гробу которого ты идешь, занял главное место в твоей душе, во имя Отца и Сына, и Духа Святого, аминь, Мод, по-прежнему с глазами, полными слез, наклонилась, чтобы поцеловать руку старого человека, большую натруженную руку, покрытую огрубелой, шершавой и жесткой кожей, целуя эту огрубелую, шершавую и жесткую руку, она подумала: сейчас он уйдет, и я останусь наедине со своей любовью, исповедник, уже чужой и далекий, продолжал идти вперед, с трудом переставляя босые ноги, а она стояла на месте одна, уже оторвавшаяся от этого человека, но еще не замешавшаяся в толпу теней, которые постепенно становились живыми людьми, она подумала: он возьмет меня за руку, и минуту спустя, уже не видя теней, но чувствуя себя окруженной живыми телами, подумала: этого никогда не случится, он никогда меня не полюбит, она увидела, что мимо ровным спокойным шагом проходит Робер, увидела его сильные руки и темные волосы, он весь был воплощенье надежности, уверенности и покоя, я никогда не полюблю его, — подумала Мод едва ли не с сожаленьем, и тут ей вспомнился недавний вечер, когда она тщетно упрашивала Жака прийти в Клуа, потому что той ночью в деревне должны были играть свадьбу ее сестры Агнессы, они стояли у шалаша, на лугу перекликались сгоняющие с пастбища коров пастухи, в глубине леса закуковала кушка, я тихо сказала: я думала, ты хоть немного любишь меня, он сказал, улыбнувшись: я тебя люблю, снизу донесся голос Робера, кричавшего: Мод, тебя зовет Робер, — сказал Жак, я воскликнула: ох, Жак, почему ты не такой, как все? он смотрел на меня, словно не понимая, что я хочу сказать, ты всегда такой задумчивый и далекий, — сказала я, — ты не любишь людей? люблю, — ответил он, но ты сторонишься их, почему? он уже не смотрел на меня, смотрел куда-то вбок, потом сказал: не знаю, тебе не скучно всегда одному? — спросила я, он едва заметно покачал головой, и грустно тебе не бывает? иногда, — сказал он, все еще глядя вбок, опять Робер крикнул: Мод, он ждет тебя, — сказал Жак, тогда я подумала: он никогда меня не полюбит, и, испугавшись, что расплачусь, повернулась и бросилась бежать, Робер ждал на краю пастбища, я пробежала мимо него и остановилась лишь, когда он меня догнал и схватил за руку, мы шли молча, не глядя друг на друга, Робер сказал: Мод, я хотела вырвать руку, но он только крепче ее сжал, я люблю тебя, Мод, — сказал он, — и никогда не перестану любить, он шел ровным шагом, сильный и сосредоточенный, от него веяло спокойствием, и в том, что он говорил, были уверенность и покой, у него была теплая сильная рука, рядом с ним я могла б ничего не бояться, я сказала шепотом, чтобы своими словами не так больно ранить его: я не могу тебя любить, Робер, он помолчал, потом сказал: знаю, но я тебя люблю и буду ждать до тех пор, пока и ты меня не полюбишь, тогда я остановилась с колючей льдинкой в сердце, нет, — воскликнула я, — я никогда не перестану его любить, уже последних коров согнали с луга, голоса пастухов отдалялись, мы были одни в тишине и пустоте, он не мог не почувствовать, что моя рука дрожит, идем, — сказал он, — холодает, теперь он шел впереди, обогнав ее на какие-нибудь пять-шесть шагов, она видела его ладную фигуру, излучающую покой и надежность, видела его обнаженные руки и короткие темные волосы, он шел своим обычным, спокойным и ровным шагом, не ощущая усталости, потому что настороженное внимание, владевшее им, вытеснило усталость, он шел рядом со старым исповедником, и впереди не было никого, только лесная просека, ставшая их общим путем, лесная просека, поросшая травой и стиснутая громадными стенами леса, лишь сейчас, когда впервые после ухода из Клуа он оказался один во главе похода и никто не заслонял от него дороги, которую им предстояло пройти, ему отчетливо представилась длинная вереница дней и ночей в их равнодушном течении, и едва успев об этом подумать, он понял, что дни и ночи, которыми будет отмеряться их нескончаемый путь, не принесут идущим унылого смирения, напротив, в жару, когда над ними, лишенными даже клочка тени, будет пылать небо, в удушливую жару, под проливным дождем и в грозу, бушующую над беззащитным пространством, под неутишным дождем и при прочих напастях, каких можно ждать от земли и неба этих дней и ночей, дни и ночи эти в своем бесчисленном множестве будут преследовать их и мучить, лишь изредка одаряя снисходительной благосклонностью, чтобы после кратких часов покоя и облегчения вновь бросить на произвол стихий, Робер подумал о Мод, об ее нежных ступнях и ладонях, они не беспомощны, — подумал он, — но и не так уж сильны и не очень привычны к трудам, он подумал об ее девичьих плечах, выглядевших и слишком нежными, и слишком слабыми, чтобы можно было оставить их без защиты во власти зноя, ливней и гроз, и опять подумал о маленьких девичьих ступнях Мод, шагающих по камням и пескам, по бесплодной и твердой, выжженной жарким солнцем земле, и потом только, решительно отогнав эти мысли, заговорил вслух: мой отец, Филип из Клуа, — мельник, мельница наша старая, прочная и очень красивая, во всей округе другой такой не сыскать, мой прадед был мельником, мой дед был мельником, отец мельник, и я тоже должен был стать мельником, мне уже пятнадцать лет, и я у отца единственный сын, старшие братья поумирали, я всегда думал, что до конца жизни буду молоть на своей мельнице зерно и когданибудь, через много лет, мое место займет мой сын, но наступил день, когда я вынужден был покинуть отца, хотя он стар и нуждается в помощи, не хотелось мне быть плохим сыном, но пришлось стать из любви к девушке по имени Мод, дочке кузнеца Симона из Клуа, я поступил так, как поступил, отец, иначе я поступить не мог, потому что больше всего на свете люблю Мод, я люблю ее, хотя она меня не любит, она хрупкая и нежная, у нее маленькие нежные ступни, уже сейчас, хотя мы всего лишь пятую неделю в пути, я вижу в ее глазах усталость, кто бы оберегал ее от непосильных трудов, кто бы о ней заботился, если б меня не было рядом? я не мог поступить иначе, поверь, и, не желая того, вынужден был своим уходом причинить страшную боль родному отцу, я понял тогда: любви должно сопутствовать страдание, не любить нельзя, но, если любишь, любовь расщепляется на любовь и страдание, последний раз я видел отца в ту ночь, когда мы покидали родную деревню, он ни в чем не упрекал меня, не пытался удерживать силой, просто стоял, сгорбившись, понурив голову, в дверях нашей мельницы, я стоял от него в двух шагах, мы ни о чем не говорили, но он уже все знал, в нашей церкви звонили все колокола, мы долго стояли рядом, так близко, что мне казалось, я слышу биенье его старого и усталого сердца, внезапно он поднял голову, положил руку мне на плечо и сказал не громко, хотя и не очень тихо: Робер, только одно это слово сказал, но я понял, что одним этим словом он хотел мне сказать все, и я снял его руку со своего плеча, поцеловал ее и сказал: я должен идти, отец, и ушел в ночь, в темноту, наполненную звоном колоколов, которые так звонят у нас только на похоронах и на свадьбах, а теперь звонили, не знаю, к свадьбе или к похоронам, звонили, потому что в нашей деревне случилось что-то такое, чего там прежде никогда не случалось, да и нигде на свете, наверное, тоже, и чего я, хоть и подчинился этому из любви к Мод, понять не мог, думаю, отец, в ту ночь, когда мы покидали свою родную деревню и свои дома, и своих матерей и отцов, никто из нас этого не понимал, кроме, быть может, одной только Мод, мы не понимали, что приключилось с Жаком, почему он три дня не выходил из своего шалаша и ни с кем из нас не хотел говорить, и никого не впускал в шалаш, он всегда немного отличался от нас, был не просто самый красивый из мальчиков, но и вообще не такой, как все, мой отец говорил, это оттого, что он сирота, и, хотя он с пеленок рос среди нас, кем были его родители, никто не знал, еще жив старый ключарь, который нашел его пятнадцать лет назад в корзинке на церковной паперти, его тогда окрестили и нарекли Жаком, потому что как раз был день святого Иакова, кузнец Симон, отец Мод, взял его к себе, и у них он рос, сколько я себя помню, Жак всегда отличался от нас, его называли Жаком Найденышем, он никогда не любил общих забав, предпочитал одиночество, а если играл с нами, то так, будто был среди нас и одновременно где-то еще, и все равно мы любили его, потому что он был очень красив, и улыбался застенчивой, но чарующей улыбкой, и, когда говорил, мягким и мелодичным звучаньем своего голоса завораживал всех, нельзя было его не любить, год как он был старшим над пастухами из Клуа, но с каждым днем все меньше времени среди нас проводил, перестал возвращаться на ночь со всеми вместе в деревню, построил себе шалаш на опушке леса, высоко над нашими прекрасными пастбищами, и в этом шалаше ночевал, но ложился, должно быть, поздно, потому что многие из нас часто видели, как уже заполночь перед его шалашом горел одинокий костер, даже недавно, когда вся деревня гуляла на свадьбе Агнессы, старшей сестры Мод, Жак к нам не пришел, вот почему мы ничего не могли понять, когда он, после того, как три дня никого не хотел видеть и ни с кем не хотел говорить, вдруг вечером вышел из своего добровольного заточения, мы увидели его таким, каким привыкли видеть всегда, когда с заходом солнца наступало время сгонять с луга коров, он стоял перед шалашом, распрямив плечи, уперев руку в бедро, солнечный свет, заливавший его, медленно меркнул, а он ждал, покуда последний луч не погаснет у ног, но если обычно в эту минуту подносил ко рту ладони, чтобы исторгнуть из себя гортанный клич, знак, что нам пора сгонять с луга коров, в тот вечер он не поднес ладоней ко рту, и мы не услышали его голоса, он стал неторопливо спускаться по отлогому склону к нам, стоящим внизу, хорошо помню, что он был бледен как полотно, я знал: что-то произойдет, но не представлял, что может произойти, мы забыли, что пора сгонять с луга коров, стояли молча, и так продолжалось долго, мы очень долго его ждали, потому что чем ближе он подходил, тем медленней шел и тем бледней становился, казалось, вся кровь отхлынула у него от лица, наконец, в гробовой тишине, он подошел и встал среди нас, мы уже поняли: он хочет что-то сказать, и обступили его, не помню, чтоб когда-либо раньше мне доводилось слышать такую же тишину, какая была тогда, и в тишине этой, не глядя на нас, он заговорил, ты уже, наверно, знаешь, отец, что он тогда сказал, его слова до сих пор живут в нас и рядом с нами, мы знаем их наизусть, могли бы их повторить, разбуди любого из нас посреди глубочайшего сна, но, хотя мы знаем эти слова наизусть, не уверен, что понимаем их, они выше нашего понимания, эти слова, тогда же, когда он произносил их среди нас и для нас, четырнадцати пастухов и пастушек из Клуа, мы понимали еще меньше, чем понимаем сейчас, когда они превратились в простирающийся перед нами путь и в далекую цель, которая недоступна была воображению, но все же стала для нас целью и представляется нашим взорам воротами и стенами чужого города где-то под чужим небом в чужом краю, тогда, бледный, не глядя на нас, обступивших его, он говорил о бездушной слепоте рыцарей, герцогов и королей и призывал нас, поскольку никто, кроме нас, не слышал его, не оставить своим милосердием пребывающий в руках нечестивых турок город Иерусалим, да еще сказал, что Господь всемогущий нас избрал, ибо скорее, нежели любая мощь на суше и на море, чистая вера и невинность детей величайшие могут сотворить деянья, и, сказав все это, непонятное и непостижимое, умолк, а потом очень тихо, голосом, в котором была уже только усталость и мольба, проговорил: сжальтесь над Святой Землей и одиноким Гробом Господним, когда же все это было сказано и снова настала тишина, сродни той, какая была, когда он подошел и встал среди нас, я подумал, отец, и готов поклясться, что о том же подумали остальные, я подумал: бедный, несчастный Жак, он помешался в своем затворничестве, его убила гордыня, будь моя власть, я дал бы отсечь себе руку, лишь бы не допустить того, что произошло, я понимал, что второй раз Жак свой призыв не повторит, ибо подвигнуться на такое можно только однажды и либо победу одержать, либо потерпеть непоправимое пораженье, я понимал, что Жак потерпел поражение, и через минуту мы молча начнем расходиться, оставив его в плену безумья и одиночества, я уже хотел было подойти к нему и сказать: я провожу тебя до шалаша, ты болен, тебе надо лечь, как вдруг почувствовал прикосновение легкой руки к своему плечу, это была Мод, которая все время стояла у меня за спиной, теперь движеньем руки она заставила меня обернуться к ней, но сама, не глядя в мою сторону, будто вовсе не замечая, прошла мимо, подошла к Жаку, остановилась и замерла молча, я хотел крикнуть: не делай этого, Мод, но не успел открыть рта, как она повернулась к нам, взяла руку Жака в свою и, с таким же бледным, как у него, но более прекрасным, чем когда-либо прежде, лицом, которое в ту минуту было подобно лику святой, с глазами, наполненными светом, яркость и глубина которого казались воистину неземными, заговорила, я не помню ни единого слова из того, что она сказала, думаю, и она сама, и Жак, и все остальные тоже этих слов не помнят, никто никогда их не повторял, однако же именно они, забытые всеми и даже ею самой, привели нас на эту дорогу, они, эти забытые ныне слова, оказались подобны брошенному в воду камню, который, исчезая сам в глубине, приводит в движение волны, это Мод совершила чудо, которое не сумел совершить Жак: подойдя к нему и заговорив, она спасла безумца от пораженья и превратила его безумие в назначение, слабость — в силу, сейчас этого уже никто не помнит, а я помню, так как пережил за несколько минут больше, чем за всю предыдущую жизнь, и, если можно заглядывать в будущее, увидел в тот миг, что нас ждет впереди, и, хотя во мне были только мрак и отчаяние, ни крупицы надежды и веры, только отчаяние и мрак, ибо в тот час и моя любовь к Мод была лишь отчаянием и мраком, подошел к ним, когда Мод кончила говорить, я встал рядом с ними, рядом с Жаком и Мод, и нас уже стало трое, а спустя минуту, которая пролетела быстрее самых быстротечных минут, рядом с нами стояли все, одни потом рассказывали, что увидели в тот момент гигантскую молнию, прочертившую в безоблачном небе огненный след, иные же почувствовали, что земля содрогнулась у них под ногами, уже смеркалось, когда мы с пением возвращались в Клуа, Жак шел впереди, я шел рядом с Мод, и по-прежнему во мне были только мрак и отчаянье, я еще не сказал тебе, отец, что Мод, которую я люблю, любит Жака, но ее любовь безответна, потом, когда мы с пеньем приблизились к первым домам, на землю внезапно спустилась ночь, и в нашей церкви зазвонили колокола, Робер умолк, а поскольку старый человек в бурой рясе не отозвался ни словом, дальше они шли в молчании, старый человек, тяжело припечатывающий землю своими большими отекшими ступнями, и подле него Робер, спокойный и сосредоточенный, сдержанный в движеньях, будто нарочно берегущий силы, чтобы телу и разуму легче было справляться с грядущими обязанностями и трудами, Робер подумал: через час стемнеет, ночь будет холодной и на землю ляжет роса, если до наступления темноты мы не дойдем до какой-нибудь деревни, придется ночевать в лесу, ночь будет холодной и Мод продрогнет, если б она любила меня, я бы теплом своего тела ее согревал, она могла бы безмятежно спать в моих объятьях, любовью можно заглушить даже голод, сын мой, — сказал старый человек и умолк, точно растерял нужные слова, и опять они шли молча, неожиданно для самого себя Робер подумал: я б не сумел сейчас говорить так, как говорил тогда, сейчас я бы мог предложить и меньше и больше, это было в ту дивную предвесеннюю лунную ночь, когда вся деревня гуляла на свадьбе Агнессы, сестры Мод, просторная поляна вблизи нашей мельницы с трудом вмещала танцующих, несколько бродячих музыкантов подыгрывали им на лютнях и тамбуринах, но Мод не хотела танцевать, она все еще обманывала себя надеждой, что Жак придет, мы стояли поодаль в тени молодого тернового деревца, и я говорил: будь я богат, я собрал бы множество прославленных рыцарей и захватил для тебя неприступный замок, у тебя были бы самые прекрасные наряды и драгоценности, а труверы слагали бы песни во славу твоей красы и доброты, вдруг я заметил, что ее лицо оживилось, сердце мое забилось сильней, но в ту же секунду я понял свою ошибку: Мод смотрела не на меня, она смотрела на подростка, который протискивался между танцующих и хрупким своим сложеньем и светлыми волосами напоминал Жака, но стоило ему повернуть в нашу сторону голову, сходство с Жаком пропало, у Мод померкли глаза, погодя она тихо сказала: я не добрая, я хотел возразить, но тут Бланш, пробегавшая мимо своим вызывающим танцующим шагом, внезапно остановилась, вероятно, заметив нас, хотя мы стояли в тени терновника, о, это вы, — воскликнула она своим низким гортанным голосом, — почему не танцуете? и подошла, разрумянившаяся, знающая цену своей красоте, пошли потанцуем, — сказала она мне, но я промолчал, и она рассмеялась: не хочешь? эх ты, тютя, все знают, что она без памяти влюблена в Жака, а ты таскаешься за нею, как тень, если б ты был мужчиной, я мужчина, — сказал я, — и поэтому тебя не ударю, она опять рассмеялась и сказала, оборотившись к Мод: знаешь, глупая клуша, что я сейчас сделаю? охота меня взяла на твоего красавчика Жака, а уж коли меня разберет охота, я своего добьюсь, веселись хорошенько, Мод, сын мой, — сказал исповедник, — я настолько старше тебя, что ты бы мог быть моим сыном, если не внуком, слушая тебя, я думал: дай мне, Боже, достаточно силы и мудрости и достаточно веры, любви и надежды, чтобы помочь этому мальчику, отец мой, — тихо проговорил Робер, — я хочу верить, что мы дойдем до далекого Иерусалима, так как хочу быть сильным, сын мой, — сказал старый человек, — твоя вера, и умолк, потому что подумал: несчастья, страдания, чувство потерянности вызывают желание верить, из этих же отравленных источников рождается сама вера, не дай, Господи, чтоб когда-нибудь сбылся мой ужасный сон и чтобы мертвая, спаленная солнцем пустыня стала концом пути этих детей: тех, что еще не пробудились для жизни и потому невинны, и тех, что уже изведали первые горести, вера, — сказал он, — великие может творить дела, может сдвигать горы, знаю, — сказал Робер, — поэтому и хочу верить, что когда-нибудь мы войдем в ворота Иерусалима, тут исповедник забормотал привычные слова прощения, после чего, повернувшись к рядом идущему всем своим большим грузным телом, поднял натруженную ладонь для благословенья, и, когда чертил над головой мальчика знак креста, взгляды их на мгновение встретились, он, верно, много страдал, — подумал Робер, ему еще много страдать, — подумал старик, Робер остановился, а тот продолжал идти вперед, сгорбленный, одинокий, теперь ты, — услышал Робер за спиной голос Алексея Мелиссена, и его обогнала Бланш, она шла к исповеднику неторопливым, нарочито вызывающим шагом и здесь, на этой лесной дороге, казалась чужой и особенно, дерзко вызывающей, на ней было платье из тяжелого светло-зеленого шелка, сплошь затканное золотой нитью, поверх платья пурпурный расширяющийся книзу блио без рукавов, рябь теней и солнечных пятен трепетала на пурпуре ее верхней одежды и на свободно ниспадающих на пурпурную ткань волосах, в этом богатстве тканей и красок она двигалась непринужденно, словно рождена была в роскоши, и вместе с тем вызывающе, так как это было у нее в крови, приближаясь к одиноко идущему теперь уже всего лишь на шаг впереди человеку, Бланш думала: хочу, чтобы поскорей наступила ночь, я его ненавижу, но не тогда, когда он со мной это делает, потому что он делает это лучше, чем все другие, с кем я спала, он входит в меня стремительно, но потом остается долго, ровно столько, сколько нужно мне и ему, он молчит, и я знаю: входя в меня, он думает не обо мне и не меня хотелось бы ему обнимать, но ведь и я, когда он входит в меня, да и потом, все время, тоже думаю не о нем, мы оба это знаем и потому можем быть вместе так долго, а затем ненавидеть друг друга, однако, когда наступает ночь, снова, сорвав с себя одежды, соединяться без взаимной любви, зато связанные и порабощенные общей любовью, слушаю тебя, дитя мое, — сказал старый человек, Бланш внимательно оглядела его большие отекшие ступни, затем, отступив немного, пробежала взглядом по грубому жесткому сукну его бурой рясы, он шел, не глядя на нее, засунув в рукава рясы кисти рук и слегка склонив голову, о чем рассказывать этому старому хрену? — подумала Бланш, — он стар, грязен и смердит, как душной козел, она увидела себя бегущей по пастбищу, залитому лунным светом, вот о чем я ему расскажу, — усмехнулась недобро, но продолжала молчать, видя себя бегущей по пастбищу, он преградил ей путь, когда она подбегала к березовой роще, вырос перед ней так неожиданно, что, не будь неподалеку к дереву привязан рослый белый скакун, которого она заметила чуть погодя, Бланш бы подумала, что видит сон или на нее нашло наважденье, никогда прежде он ей не встречался, правда, поняв, что это не сон и не наваждение, она мгновенно вновь обрела уверенность в себе, незнакомец был темноволос и широкоплеч, крепкого сложенья, с угрюмым смуглым лицом, одежда его состояла из короткой серебристой туники, облегающих ноговиц из зеленого полотна и кожаных полусапожек, у пояса висел короткий меч, он прогнал тебя, — услышала Бланш и, защищая свою раненую любовь, невольно воскликнула: нет! потом, уже спокойно, спросила: откуда ты знаешь? он усмехнулся презрительно и своим низким, чуть хрипловатым голосом повторил: он тебя прогнал, она не могла удержаться, чтоб не спросить: ты знаешь девушку, с которой он спит? он не ответил, беззастенчиво ее разглядывая, она красивей меня? — спросила Бланш, а поскольку он продолжал молчать, сказала, глядя прямо в его темные хмурые глаза: сможешь сделать так, чтобы я перестала о нем думать? тогда он взял ее за руку, сжал пальцы так крепко, что она коротко вскрикнула, и потянул за собою в тень, она увидела расстеленный на траве пурпурный плащ, раздевайся, — сказал он, она знала, что сделает это, и все же спросила: кто ты такой? раздевайся, — повторил он, я лежала нагая на пурпурном плаще, никогда прежде мне не случалось лежать на ткани, столь приятной на ощупь, я слышала, что он раздевается, но спокойно, неторопливо, слышала шуршанье сбрасываемых наземь одежд, глаза мои были открыты, и, когда он ступил босыми ногами на плащ и встал надо мной, я увидела его во всей его наготе, тогда я еще на знала, что и тело свое, и свою мужскую силу он жаждет подарить не мне, стоя надо мной обнаженный, он сказал: он тебя прогнал, еще никогда в жизни я так не желала Жака, как в ту минуту, я сказала: сделай, чтоб я не думала, и тогда он в меня вошел, а когда, уже после всего, лежал рядом, положив руку под голову, спросил: ты о нем думала? я ответила: да, я думала о нем, и я думал о нем, — сказал он, — знаешь, кто у него в шалаше? я промолчала, и он погодя немного сказал: господин мой и покровитель, граф Людовик, владелец всей этой земли, граф Шартрский и Блуаский, после чего, без единого слова, закрыв глаза, обнял меня и снова в меня вошел, дитя мое, — сказал старый человек, — кроме молчания, тебе нечем поделиться со мной? Бланш выпрямилась и нарочно сменила шаг, поплыла в такт неслышимой музыки: я не просила тебя, старик, выслушивать мои признанья, значит, ты хочешь уйти, не исповедавшись и не получив прощения? она беззаботно рассмеялась, сказала: я это сделаю, тебя не спросясь, и, обернувшись на миг, увидела медленно, почти незаметно для глаз движущуюся толпу, тысячу светлых и темных голов, одна подле другой, белизну девичьих платьев и мальчишечьих домотканых холщовых туник, а над ними черные кресты, хоругви и разноцветные образа, было тихо, и только где-то далеко, в невидимых задних рядах, коротко, на высокой ноте звякнул, от неосторожного, видно, движения, колокольчик, Бланш вдруг показалось, будто все, что она в эту минуту видит, ей только снится, и достаточно поднять руку или вздохнуть поглубже, чтобы пробудиться в ином мире, но не успела она этого сделать, как увидела Алексея, он стоял в двух шагах от нее, и его лицо было таким же тревожно угрюмым, каким она привыкла видеть его еще ближе и неизменно над собой склоненным, когда сама она, широко раскрытыми глазами глядя в это лицо, столь же знакомое, сколь и чужое, покорно отдавалась его грубой и порывистой мужской силе, Бланш остановилась и замерла, он сжал ее пальцы и сказал: почему ты не исповедуешься? пусти, — сказала она, он еще сильней сжал ее пальцы, пусти, — повторила она, — я не хочу исповедоваться, но все же, подчинившись ему, попятилась и опять в какое-то мгновенье увидела перед собой, поверх темноволосой головы Алексея, недвижные черные кресты, хоругви и образа, а над ними тучу желтых пылинок, трепещущих между тенями пущи и пробивающимися сквозь деревья отблесками заходящего солнца, иди к нему, — сказал Алексей таким же приглушенным и хрипловатым голосом, каким говорил: раздевайся, пусти, — повторила она, и тогда он сказал: убью, как собаку, если не исповедуешься и не получишь прощенья, лги, но будь такая, как все, и вот она опять оказалась рядом со стариком, который смердел, точно душной козел, и медленно, задумчиво и смиренно припечатывал большими отекшими ступнями землю, увлажненную предвечерней росой, он знает обо мне все, — подумала Бланш, — он смердит, точно душной козел, и знает обо мне все, прости, отец, — она чувствовала, что голос ее как никогда чист, — прости меня за резкость и высокомерие, мой голос, — думала она, — пенье, моя грудь несказанно красива, ни у одной другой девушки не увидеть такой, я умею любить и принимать в себя мужчину так, что ни одна другая девушка в этом не сравнится со мной, прости, отец, что я так вела себя, но, очутившись рядом с тобой, я растерялась, мне стало страшно, что не столько в своих придется признаваться грехах, сколько говорить о прегрешеньях других, не спрашивай у меня, отец, имена этих людей, я знаю, что сама обязана их тебе назвать, мой жених и будущий супруг, если всемогущий Бог дозволит нам обоим когда-нибудь предстать перед Гробом Господа нашего Иисуса Христа, мой будущий супруг и повелитель, граф Шартрский и Блуаский, граф Алексей Мелиссен Вандомский минуту назад подбодрил меня и несколькими словами рассеял сомнения, убедив, что нельзя скрывать то, о чем известно мне и что прежде всего должно быть открыто тебе, отец, а если посчитаешь нужным, то и всему свету, так вот, отец, я обязана сказать тебе, и это правда, клянусь, это правда, спасеньем души клянусь, что тот, кто считает себя посланником Божьим и таковым же видится идущим за ним невинным детям, клянусь, что человек, зовущийся Жаком из Клуа, говори о себе, дитя мое, — сказал старый человек, отец, я одна знаю, что Жак давно уже лишился невинности, ни чистым, ни невинным его нельзя назвать, он не таков, каким хочет казаться и каким кажется, ночи его развратны, это ночи греховных плотских утех, дочь моя, — опять сказал старый человек, я говорю правду, клянусь, отец, что я говорю правду, недавно, когда вся наша деревня гуляла на свадьбе Агнессы, сестры Мод, поздней ночью я побежала к Жаку в шалаш уговорить его прийти на гулянье, я окликнула его, подойдя к шалашу, потом, решив, что он спит, окликнула снова, и тогда он вышел из шалаша в чем мать родила, у него хватило бесстыдства показать мне свою ничем не прикрытую наготу, замолчи, — сказал вполголоса исповедник, а в его шалаше, я отлично видела, на его убогой постели лежала Мод, которая строит из себя невинную девочку, замолчи! — на этот раз голос старого человека, хотя и по-прежнему приглушенный, прозвучал так твердо, что Бланш прикусила язык, она подумала: старый вонючий козел знает обо мне все, почему ты велишь мне молчать? — спросила она, — не хочешь выслушать мою исповедь? не хочу слушать твое вранье, — ответил он, с чего ты решил, что это вранье? я знаю, что ты обо мне думаешь, ты думаешь, я лживая, суетная и распутная, но сейчас я скажу тебе чистую правду: если бы Жак меня полюбил, ни лживой, ни суетной, ни распутной я б не была, исповедник помолчал немного, потом сказал: нет таких людей, которые бы с первого своего и до последнего шага умудрялись быть только и безнадежно плохими, бывает, что человек, утратив последние иллюзии и надежды, умерщвляет в себе человека, можно в мгновение ока добровольно лишить себя жизни и остаться живым, но чтобы убить в себе потребность в любви и потребность в надежде, нужны долгие трудные годы, ведь утопающий хватается даже за воздух, даже за воду, и потому, если человек еще не окончательно себя умертвил и где-то в темной пучине его зла теплится хотя бы крохотный огонек тоски по добру и потребности в добре, он склоняется над этим слабеньким огоньком, дабы в час одиночества согреть себя надеждой и уверовать: то, что сегодня бессильно и хрупко, может со временем вспыхнуть и воссиять, возможно, я ошибаюсь, несчастная дочь моя, но, боюсь, если б Жак когда-нибудь тебя полюбил, не ты б перестала быть лживой, суетной и распутной, а он бы стал суетен, распутен и лжив, Бланш усмехнулась: ты считаешь, я настолько сильна? я думаю, ты очень несчастна, ошибаешься, отец, я вовсе не чувствую себя несчастной, посмотри на меня, разве такой у несчастных вид? не взглянув на нее, исповедник сказал: человек, который заблудился в чужой, незнакомой местности и понимает, что заблудился, начинает искать правильный путь, у того же, кто, сбившись давно с дороги, знать не знает, что потерял верное направление, впереди нет ничего, верное направленье! — воскликнула Бланш, — скажи мне, что это, верное направленье, где оно, верное направленье? не знаю, — подумал старый человек и сказал: Бог, тогда она подумала: скорей бы уж наступила ночь, он подойдет, когда я буду лежать, притворяясь спящей, а всех вокруг уже сморит сон, скажет негромко: пойдем, и я встану и пойду за ним, мы будем идти крадучись, чтобы никого ненароком не разбудить, пока наконец не окажемся в таком месте, где вокруг будет пусто и мы будем совсем одни, он расстелет на земле свой пурпурный плащ, мы разденемся молча, так как ни мне, ни ему не нужны слова, я знаю, о чем он думает, и он знает, о чем думаю я, он войдет в меня стремительно и грубо, наслаждение соединит наши тела, мы ж, наслаждаясь, будем думать в телесном слиянии: я, что не он дарит мне блаженство, он, что не мне его предназначает, клянусь, отец, — сказала Бланш, — я бы стала совсем другой, если б Жак захотел меня полюбить, ни лживой, ни суетной, ни распутной больше бы не была, вытравила бы из себя лживость, суетность и всякое непотребство, все, что во мне есть дурного, вытравила бы, если б только Жак меня полюбил, потому что я люблю Жака и в своей любви к нему тоже могу поклясться, я люблю его, потому что он чист и невинен, он лучше меня, другого такого нету на свете, но люблю я его еще и потому, что он недоступен, все, что я говорила о нем, неправда, я солгала, что тогда, в ту ночь, Мод была у него в шалаше, никого у него в шалаше не было и обнаженным он оттуда не выходил, я хотела ему отдаться, но он не захотел, потому что невинен и чист, он недоступен, порой я сама уж не знаю, чего хочу больше и что подогревает мою любовь: страстная жажда его тела и его ласк или скованность его недоступностью, неволя, в которую толкнуло меня собственное мое естество, и еще что-то, что ускользает от моего разумения и сильней моего естества, я рабыня, рабство мое у меня в крови, внезапно Бланш уловила какое-то волнение в движущейся за ее спиною толпе, услышала звук, похожий на вздох удивления, а может быть, облегчения, вырвавшийся разом из тысячи уст, подумала: они прогонят меня, если я не получу прощения, и тут, подняв в смятенье глаза, увидела впереди и вокруг необъятное небо, по всему горизонту затягивающееся тяжелыми темными тучами, под небесным сводом, неожиданно вырвавшаяся из плена недвижных стен пущи, широко раскинулась плоская равнина, придавленная грозной тенью тяжелых туч, Бланш увидела короткую торопливую вспышку молнии, пронзившей застылую громаду туч, а внизу зеленые озерца и одинокие деревья, ее окатило волной воздуха, и он показался ей легче и вольнее, чем воздух, которым она дышала до сих пор, дорога сбегала вниз, туда, где посреди плоской равнины неподвижно зеленели зеленые озерца и из серой и неподвижной земли вырастали одинокие деревья, опять нетерпеливая молния вклинилась между клубящихся облаков, черная воронья стая, сорвавшись с крайних деревьев на опушке леса, черной тучею, низко над землей, летела к зеленым озерцам, далекий гром прокатился где-то вдалеке, Бланш снова заговорила, на этот раз еще торопливее: я солгала, сказав, что Алексей Мелиссен мой будущий супруг и повелитель, он не жених мне и не возлюбленный, он мне все равно что брат, которого у меня никогда не было, а я ему все равно что сестра, которой он тоже никогда не имел, так как был совсем еще мал, когда в городе, который называется Византия, погибли на великой войне его отец и мать, а его самого, круглого сироту, увез с собой во Францию граф Людовик и многие годы, вплоть до недавней своей кончины, осыпал милостями и, не имея собственных детей, сделал единственным наследником, с Алексеем Мелиссеном мы повстречались однажды возле ручья, который течет неподалеку от нашей деревни, я собирала молоденькие калужницы, чтобы свить венок на алтарь святого Иакова в нашу церковь, он ехал на белом невероятно красивом коне, потом я от него узнала, что в далекой Андалузии рождаются такие кони, он был богато одет, но задумчив и грустен, он спросил у меня дорогу в Шартр, а потом спросил, не хочу ли я поехать с ним и при нем остаться, я сказала тогда, что не могу этого сделать, так как сердце мое занято другим, в ответ он посмотрел на меня долгим взглядом, а потом сказал: мое сердце тоже не свободно, как же я могу с тобой поехать и при тебе остаться? на что он ответил: мы будем с тобой как брат с сестрой и сестра с братом, я, как сестру, буду тебя уважать и ограждать от всяких бед, а ты, как сестра брату, скрасишь мне мое одиночество, я богат, все эти земли до самого небосклона и дальше принадлежат мне, ты поселишься в неприступном замке, у тебя будут собственные покои и собственная прислуга, ты получишь столько нарядов и драгоценностей, сколько пожелаешь, а если тебя страшит, что наша жизнь может оказаться пустой, грошовым камушком, вставленным в дорогую оправу, не бойся, у нас обоих найдется множество разных дел, не будучи стеснены в средствах, мы станем щедрой рукой сеять вокруг добро, жаждая облегчить людям изнурительные страданья, отвращая несчастья, нужду и телесные муки, самоотверженностью своей смягчая жестокость природы, а сверх того, дабы и память великого рыцаря, каким был покойный граф Людовик, в грядущих столетьях увековечить и Всевышнему оказать нашу любовь и благодарность, поклянемся торжественно, что в славном нашем городе Шартре завершим постройку собора, под стены которого, уже сейчас горделиво возносящиеся над домами и площадями, восемь лет назад заложил краеугольный камень граф Людовик, подумай, — сказал он после того, как я выслушала его в молчанье, — поразмысли, сестра моя, надо всем этим, не хочу, чтобы ты принимала решение второпях, не подумав, я вернусь сюда через три дня, и тогда ты мне скажешь: да или нет, и с этими словами уехал, а я, — Бланш почувствовала слезы на глазах, а во всем теле упоительно сладостное бессилье, тяжелые тучи на небосклоне взбирались все выше, и все большие пространства неба заволакивали густеющей тьмой, опять вспыхнула молния, прямая, как горящая стрела в полете, и опять глухо заворчал в утробе черных туч гром — а я, когда он уехал, три дня и три ночи провела в раздумьях, плакала и молилась, то чувствовала себя счастливой, то несчастной, решалась и не могла решиться, пока, наконец, не настал последний, третий день, и я, поцеловав руки родителям, чуть свет поспешила к ручью, на то самое место, где мне впервые встретился Алексей Мелиссен, едва добежав туда, я увидела катившую по дороге роскошную золотую карету, запряженную шестеркой белых лошадей, и рядом Алексея Мелиссена на вороном скакуне, с его плеч ниспадал пурпурный плащ, когда он ко мне подъехал, я заметила, что лицо его, как и при первой нашей встрече, задумчиво и печально, но в то же время излучает необычайный свет, вот мой брат, — подумала я, и с этой минуты стала ему сестрой, а он мне — нежнейшим заботливым братом, поэтому и сейчас, когда он решил на долгие месяцы отказаться от жизни в довольстве и покое, чтобы принять участие в крестовом походе в далекий Иерусалим для освобождения Гроба Господня из-под ига поганых турок, в этот многотрудный путь я отправилась вместе с ним: ведь мы, и он, и я, оба порабощенные безответной любовью, поклялись, что всегда и в любую минуту, в доле и недоле, в роскоши и нищете, во здравии и болезни, в славе и унижении будем мыслью и поступками друг друга поддерживать и друг другу помогать, он, будучи мне братом, и я, будучи ему сестрой, весенняя буря стремительно приближалась, черные тяжелые тучи уже достигли высочайших небесных вышин, они ползли прямо навстречу грозе, навстречу молниям, вспыхивающим все чаще и чаще, навстречу громам, которые прокатывались уже не по краю далекого небосклона, а, взрываясь у вершины подступающей тьмы, бесконечно долго падали во мрак, еще продлевая эхом свой грозный рык, чтобы, прежде чем эхо смолкнет, вновь, почти одновременно с ослепительной вспышкой, сотрясти сумрачный небесный свод, вдруг, словно рожденный долгой неподвижностью, поднялся ветер, желтое облако пыли взметнулось над плоской равниной, я солгала, — крикнула Бланш, — все это ложь! и тут старый человек без единого слова поднял руку и осенил ее знаком креста, Алексей Мелиссен с облегчением вздохнул, он сейчас только осознал, что все то время, пока Бланш шла рядом с исповедником, томился в напряженном до боли ожидании, он подумал: не знаю, что бы произошло, не получи она отпущенья грехов, но что-то непременно произошло бы, и скинул с плеч свой пурпурный плащ — добела раскаленная молния озарила полумрак и среди клубящейся желтой замети, совсем уже близко, вонзилась в невидимую землю, оглушительный грохот сотряс темноту и тотчас же стих, где-то далеко, в конце шествия, заплакал ребенок — с плащом, будто пламя реющим на ветру, Алексей приблизился к Жаку, который шел перед ним, и набросил плащ на его обнаженные плечи, а когда тот, повернув голову, передернул плечами, словно хотел сбросить плащ, сказал: до сих пор ты отказывался принять этот плащ, хотя тебе, как вожаку, скорее, нежели мне, пристало его носить, но сейчас, пока я буду исповедоваться, прошу тебя, согласись, и отошел раньше, чем Жак успел произнести хоть слово в ответ, внезапно ветер унялся, и на мгновение, краткое как вздох, воцарилась тишина, тишина, под властью которой в то мгновенье, краткое как вздох, всему сущему, казалось, пришел конец, казалось, и солнце остановилось, и небо, и звезды, и смертная их окоченелость лишила движенья и звука всю прочую жизнь на земле, но тут хлынул проливной дождь, опять засверкали молнии, тяжелые раскаты грома, заглушаемые шумом ливня, гремели, пробиваясь сквозь этот шум, Алексей шел, расправив плечи, не замечая дождя, опять настороженный и внутренне напряженный, даже не поглядев, он миновал Бланш, которая брела, спотыкаясь точно слепая, беззащитная и беспомощная, под неукротимым грозовым ливнем, и неторопливым шагом уже догонял старого исповедника, когда земля, размякшая под хлеставшим как из ведра дождем и уже вобравшая в себя, сколько могла, из этого внезапного обилия влаги, перестала безвольно поддаваться потопу, и на ее поверхности разлились огромные рябые от ливня лужи, старый человек шел не медленней и не быстрей прежнего, шел своим обычным тяжелым шагом, его большие отекшие ступни увязали в грязи и в лужах, вода ручьями стекала по рясе, впервые в жизни я буду думать вслух, — подумал Алексей и поднес руку к лицу, чтобы протереть заливаемые водой глаза, гроза, кажется, утихала, ему захотелось оглянуться, он знал, что увидел бы позади себя Жака, по-ребячьи шлепающего по грязи и лужам, но в пурпурном плаще, укрывающем его от дождя, а над его головой увидел бы лес, отданный на растерзание ошалелой стихии, смиренно замершей под ударами молний и громов, но он не оглянулся, небо над далеким горизонтом, откуда пришла гроза, начинало уже проясняться, и внезапно, когда вокруг еще царил полумрак и шумел дождь, там, на краю равнины, луч заходящего солнца вырвал из темноты полоску земли и неба, в незамутненной чистоте явивших миру свои формы и краски: спокойную прозелень неба, насыщенную золотистым светом, ровную ярко-зеленую полстину весенних лугов и на ней одинокие ивы, которые, несмотря на свою одинокость, теперь, казалось, связывали землю с небом, сейчас впервые в жизни я буду думать вслух, — подумал Алексей и ощутил свою добровольную покорность, нет, не добровольную, — подумал он и ощутил свою неизбежную покорность как вызов, брошенный всему свету, он думал: пусть ушами этого старого человека, который занимает меня не более, чем вода, холодным озером разлившаяся под ногами, не более, чем вода, струями сбегающая по лицу, пускай ушами этого старого человека меня услышат все живущие на земле, все, не исключая Жака, который идет следом за мной, укрытый от дождя моим пурпурным плащом, тем самым плащом, на котором, когда наступает ночь, я овладеваю этой девкой и, каждую ночь овладевая ею, принося себе и ей долгое наслажденье, не о ней думаю, а о Жаке, зная, что и она, покорно отдаваясь наслаждению, думает о Жаке, а не обо мне, Господи, — подумал он, — великий и всемогущий Боже, которого никогда не было и нет, великий Боже, существующий лишь потому, что существуют наши несчастья, Господь незримый и несуществующий, сотворенный нами самими, не знаю, о чем бы я мог просить тебя, если б ты был, помню, сказано, что любовь может творить чудеса, горы может сдвигать и еще что-то делать, не помню что, моя же любовь… он никогда меня не любил, ему даже не понадобилось говорить: раздевайся, потому что мы были в бане и я был наг, он расстелил на скамье мой пурпурный плащ, который мне сам подарил в день моего четырнадцатилетия, помню, однажды, давным-давно, когда меня, кажется, и быть еще не могло, однако ж я был, весенней залитой лунным светом ночью я проснулся, но не в ночной тишине и не при свете луны, а средь трепещущих отблесков огня, среди гула, бряцанья оружия, воя, женского плача и стонов умирающих, возле меня стояли женщина и мужчина, когда я проснулся, позади, за окном, пылало яркое зарево, я помню только это зарево и мужчину с женщиной, стоявших у моего огромного ложа, как они выглядели, не помню, это были мой отец и моя мать, но я не помню их лиц, не слышу их голосов, помню приближающийся в трепетном зареве гул, бряцанье оружия, женский плач и стоны умирающих и его помню, в ту минуту внезапно раскололась огромная дверь, она была так высока, что казалась мне и не дверью вовсе, не помню, чем она мне казалась, но когда внезапно, будто переломившись надвое, дверь раскололась, и темнота обступила меня, я впервые увидел его, он был юный, сияющий, и я сразу его полюбил, помню короткие вспышки его меча, потом, помню, на мои стиснутые у горла руки брызнули теплые струйки, то была кровь моих родителей, не знаю, кровь матери или кровь отца, кровь была у меня на руках, на губах, мне хотелось кричать, но я не кричал, а потом, вот это я помню, будто случившееся вчера, он ко мне наклонился, я зажмурил глаза, почувствовал его ладонь на мокром от пота лбу, мне хотелось плакать, но я не мог, так как чувствовал тошнотворный вкус крови на губах, была ли то кровь моей матери или кровь отца, я не знал, помню, он взял меня на руки, помню его склонившееся надо мной лицо, но что было дальше, не помню, сейчас я впервые в жизни буду думать вслух, Алексей начал говорить, дождь стихал, и прозрачная ясность завладевала все большими пространствами неба и земли: до четырнадцати лет я знал о своем прошлом лишь то, что я грек из Византии, что зовут меня Алексей Мелиссен и что в ту ночь, восемь лет назад, когда христианские рыцари под предводительством двух прославленных мужей, графа Балдуина Фландрского и графа Бонифация Монферратского, поддавшись уговорам хитрых венецианцев, вместо того, чтобы поспешать к Иерусалиму, дабы во исполнение данного ими обета освободить из-под ига неверных Гроб Христа, под покровом ночи предательски ударили по стенам Византии и затем, вторгшись в город, злодейски перебили тысячи таких же, как они, христиан, движимые не верой, а жаждой наживы и власти, меня в ту ночь пожаров и крови, когда были убиты мои родители, спас один из рыцарей, Людовик Вандомский, граф Шартрский и Блуаский, мне было восемь лет отроду, когда, рискуя собственной жизнью, он вынес меня из пылающего дворца, он рассказывал мне потом, когда я уже был с ним и он стал моим опекуном и отцом, и добился, чтобы меня, чужеземца и инородца, его величество король Филип Август признал единственным наследником старинного графского рода, владельцев Шартра и Блуа, и всего этого Вандомского края, по которому мы сейчас идем, он рассказывал мне, уже подростку, что тогда, в ту кошмарную ночь резни и пожаров, он, двадцатилетним юношей поклявшийся все свои богатства и дарования отдать делу освобожденья из-под ига неверных Гроба Христа, в ту ночь словно очнулся и понял, что совершено тяжкое преступление, и меня, потерявшего отца и мать, спас, вынеся на руках из горящего дома, специально, чтобы искупить хоть малую толику зла, причиненного христианскими рыцарями, запятнавшими себя преступлениями и беззаконьем, только это я знал до того, как мне исполнилось четырнадцать лет, воспитываясь в Шартре, который стал моим родным городом, и если чтолибо из раннего детства помню, то единственно благодаря рассказам о тех канувших в забвение временах моего чудеснейшего опекуна и отца, дождь прекратился, от мокрой земли шел одуряющий запах чернозема и весенней травы, вдалеке, будто уже в ином мире, глухо рокотал гром, заходящее солнце вновь заботливо разбросало последние отблески по плоской равнине, проглянули из темноты спокойные зеленые озерца, земля под ногами была вязкая, лужи на ней стояли уже неподвижные, Алексей увидел радугу, он продолжал: вот и все, что я знал о своем прошлом, пока мне не исполнилось четырнадцать лет, и тут однажды, в преддверье весны, земля, помню, была еще твердая, и лужи после ночного дождя сковало тоненькой коркой льда, воздух был холодный, но светило солнце, помню его ласковое тепло на плечах, было раннее утро, мы впятером или вшестером вышли за городские стены, туда, где над рекой Эр расстилались луга, хрупкий ледяной покров, стоило наступить на него босой ногой, легко растрескивался, и тогда я чувствовал, что нога погружается в холодную воду, но так как солнце пригревало шею и плечи, ощущение было очень приятным, на лугу стояла сухая и, должно быть, уже мертвая ива, мы стреляли в нее из луков, верней, не в нее, а в крохотную, белую и нежную, терновую почку, заточенная в твердую кору мертвой ивы, она казалась лишь белым пятнышком, и в эту цель мы стреляли из луков, помню, в какой-то момент моя стрела, нетерпеливо дрожа, вонзилась в самую середину белого пятнышка, весь ствол мертвого дерева уже был утыкан трепещущими стрелами, казалось, они бы хотели оттуда вырваться да не могли, когда мне удалось вогнать стрелу в самую середину маленькой терновой почки, сразу настала тишина, потом товарищи мои друг за другом потянулись к дереву, чтобы изблизи взглянуть на стрелу, вонзившуюся в самую середину белой терновой почки, я остался один, сердце мое колотилось от радости и от гордости, помню, прямо передо мной поблескивала большая схваченная морозом лужа, я поставил на ее гладкую недвижную поверхность ногу и уже собрался сокрушить робкое сопротивленье уходящей зимы, как вдруг почувствовал, что я не один, обернулся и тогда увидел этого человека, я сразу понял, что он не из здешних мест, он был черен, смугл, худощав, в широком мужицком плаще с капюшоном, однако плащ этот скрывал, правда, изношенное, но из дорогой ткани сшитое платье, он стоял в каких-нибудь двух десятках шагов от меня, я подумал: он видел мою стрелу, безошибочно попавшую в едва заметную цель, но одновременно подумал, что человек этот здесь, так как хочет говорить только со мной, а не с кем другим, я подождал с наложенной на тетиву новой стрелой, пока он ко мне подойдет, но, поскольку он этого не сделал, сам, не выпуская из рук лука с наложенной на тетиву стрелой, приблизился к нему на несколько шагов, тогда он, не трогаясь с места, что-то сказал на неизвестном мне языке, и хотя слова, произнесенные им, были непонятны, я воспринял их так, будто они жили во мне с моего появления на свет, вероятно, в ту минуту я побледнел, и он, вероятно, это заметил, я сказал: не понимаю, тогда он, уже на моем языке, хотя с чужеземным выговором, спросил: ты Алексей Мелиссен? я сказал: я Алексей Мелиссен, а ты кто такой? я искал тебя шесть лет, — сказал он, — ты неплохо стреляешь из лука, почему ты меня искал? — спросил я, ты неплохо стреляешь из лука, — повторил он, — но когда прицеливаешься и выпускаешь стрелу, больше расслабляй мышцы, усилие должно быть внутри тебя, глубоко скрытым, твоя натуга никому не должна быть видна, почему ты меня искал? — повторил я, — приходи после вечерней службы в церковь святого Иосифа, там я скажу, почему искал тебя, я покачал головой: если хочешь мне что-то сказать, можешь сделать это сейчас, я оглянулся на своих друзей, они стояли около мертвой ивы, смотрели на нас, но ни один не сделал попытки к нам подойти, пойдем, — сказал я незнакомцу, — если ты собираешься мне поверить тайну, у лугов нет ушей, и зашагал вперед, не выпуская из рук лука с наложенной на тетиву стрелой, незнакомец после недолгого колебания двинулся следом за мной, солнце пригревало все сильней, ледяной покров с громким хрустом трескался под ногами, твоего отца, — сказал незнакомец, — звали, как и тебя, Алексеем, а твоя мать звалась Феодосия, знаю, — сказал я, — и ты шесть лет искал меня для того, чтобы мне это сказать? нет, — ответил он, — я искал тебя шесть лет для того, чтоб сказать, что я посланец твоих родителей, тут я остановился и посмотрел ему прямо в лицо: ты знаешь, как их зовут, и не знаешь, что уже шесть лет их нету в живых? знаю, — ответил он, — так как собственными глазами видел их трупы, но кроме того, я знаю, что если в ту злосчастную ночь шесть лет назад в ужасной резне погибли многие тысячи греков и больше половины города уничтожил пожар, то и тех, кто в этих преступлениях виновен, настигла рука провидения, всего два года потешился на византийском престоле император-самозванец Балдуин, чтобы умереть затем в долгих мучениях на дне глубокого рва, куда его по приказу болгарского царя Ивана швырнули точно дохлого пса, отрубив перед тем руки и ноги, в битве с валахами пал другой вожак западных насильников и грабителей, Бонифаций, самозваный король Фессалоник, племянника сенешаля Шампаньи Готфрида де Виллардуэна, самозваного правителя Коринфа, приказал распять в Эпире Михаил Комнин, многих других преступников также настигло справедливое возмездье, лишь один, избежав кары, по сей день разгуливает по свету, и с тобой, если ты действительно Алексей Мелиссен, его связывают особые узы: это он в ту ночь, когда ты был совсем еще мал, убил твоих родителей собственными руками, только когда незнакомец умолк, я спохватился, что уже несколько минут вместо того, чтобы идти вперед, стою на месте, я знал: он говорит правду, не могу объяснить, как это произошло, но внезапно все, что моя память сохранила из детства в виде смутных и несвязанных между собой обрывков, стало до боли отчетливым, я поднял лук со стрелой, наложенной на тетиву, выпустил стрелу и смотрел, как она с тихим свистом уносится в небо, в прозрачном воздухе стрела взвилась очень высоко, но я не потерял ее из виду и следил, сам еще во власти образов той далекой ночи, чувствуя кровь родителей на губах и видя его склонившееся надо мной лицо, слыша стенания умирающих и истошный женский плач, все это видя и слыша, следил за полетом своей стрелы, теперь уже быстро снижающейся, она воткнулась в землю очень далеко, и я видел, что, воткнувшись в землю, она легонько дрожит, словно не израсходовала еще силы своего стремительного полета, лишь когда стрела замерла, я повернулся к незнакомцу и сказал, глядя в глаза: ты лжешь, если бы он возразил или стал доказывать истинность своих слов, я б, возможно, усомнился, было ли все так, как он говорит, но он молчал, ни слова не проронил, однако и не опустил под моим взглядом своих темных, глубоко посаженных глаз, я первый потупился и сказал: кто б ты ни был и какие бы ни связывал со мной намеренья, я не хочу тебя больше видеть, и если ты еще раз появишься на моем пути, я убью тебя или прикажу убить, тогда он заговорил, и, показалось мне, в его голосе была печаль: значит, ты любишь человека, руки которого обагрены кровью твоих родителей, я повторил не подымая глаз: не хочу тебя больше видеть, а если еще раз увижу, убью или прикажу убить, хорошо, — сказал он, помолчав, — я уйду, и ты больше меня не увидишь, но прежде чем уйти, одно хочу тебе сказать: когда я был твоим воспитателем, а ты — вверенным моему попеченью младенцем, однажды, в отсутствие родителей, ты тяжело заболел и бредил в беспамятстве, лекари, все до единого, сомневались, можно ли будет тебя спасти, я же днем и ночью бодрствовал подле тебя, и, когда на третью ночь, не приходя в чувство, ты стал умирать, окостенел, а стопы твои и кисти рук, несмотря на жар, сделались холодны как лед, я взял тебя на руки и сказал: ты должен жить, ты должен услышать, что я тебе говорю: ты должен жить, ты должен услышать, что я говорю тебе: ты должен жить, не помню, сколько раз повторил я эти слова, может быть, десять, а может быть, сто, зато помню, что в конце концов ты открыл глаза и посмотрел на меня, держащего тебя на руках, ясным взглядом, я проклинаю, Алексей Мелиссен, ту минуту, когда тебе, умирающему, крикнул: ты должен жить, так сказал незнакомец, каждое его слово я запомнил в точности и помню по сегодняшний день, сказав это, он ушел, но и тогда я на него не взглянул, долго стоял не шевелясь, ни о чем, пожалуй, не думая, наконец повернулся и медленно зашагал прочь, мои товарищи кричали мне вслед, но я им не отвечал, мне хотелось быть одному, только в сумерках вернулся я в замок в тот день, а после, Алексей замолчал, глядя на радугу, которая уже огромной дугой опоясала небо, затем продолжал: после я старался не думать о том, что узнал, была весна, я чаще прежнего ловил на себе его взгляд, той весной он подарил мне пурный плащ со словами: через два года получишь золотые шпоры и золотой рыцарский пояс, как-то раз, положив руку мне на плечо, он сказал: ты очень задумчив последнее время, мне б хотелось знать твои мысли, я сам их не знаю, — ответил я, и это была чистая правда, потому что я действительно не знал своих мыслей, ходил, как во сне, в тяжелом мучительном сне, делал все, что привык делать, но чувствовал себя всем и всему чужим, Алексей подумал: таких дней и ночей, когда я ходил как в тяжелом мучительном сне, было очень много, но рассказать о них я могу не больше того, что они были, что их было много и что ходил я средь них как в тяжелом мучительном сне, однажды, той же весной, он взял меня с собой в баню, раньше я бывал в бане со своими ровесниками, мне нравилось там, нравился банный жар, нравились клубы пара, окутывающие тело горячей влагой, нравилась ничем не стесненная нагота, а поскольку я был силен, из состязаний, которые мы с друзьями устраивали, всегда выходил победителем, мне нравились эти состязания, нравилась нагота распаленных тел, я радовался своей силе и любил отдыхать потом на низкой лежанке, но в тот день я не с друзьями отправился в баню, а с ним, мы были одни, он отослал прислуживавших нам при купанье челядинцев, вначале мне было немного неловко, но стеснялся я не своей наготы, а тишины, которая царила вокруг, ведь я привык, что в бане всегда стоял гомон, мне недоставало этого гомона и недоставало моих друзей, кажется, я ни о чем не думал, разве только чувствовал небольшую усталость от того, что провел целый день в седле, так как спозаранку уехал один в лес, горячая вода, однако, мгновенно смыла с меня усталость, потом я лег на низкое ложе и, кажется, по-прежнему ни о чем не думал, я даже тогда ни о чем не думал, когда он, приблизившись к ложу, лег рядом и, без единого слова меня обняв, притянул к себе, я почувствовал его наготу подле своей, а его лицо, узкое и сухое, еще молодое, хотя изрытое темными бороздами, с острым носом и глубоко посаженными глазами, до того светлыми, что они казались нагими, увидел так же близко, как шесть лет назад, когда это лицо впервые надо мной склонилось, потом, по-прежнему обнимая меня рукой, он закрыл глаза, мои глаза были открыты, он тихо сказал: ты уже мужчина, да, — ответил я и, не сделав даже попытки отстраниться от его наготы, спросил: правда, что ты убил моих родителей? я не почувствовал, чтобы он вздрогнул, а ведь лежал так близко к нему, что не мог не почувствовать, если бы по его телу пробежала дрожь или даже сердце на мгновенье забилось сильней, он сказал, не открывая глаз: да, а погодя спросил, столь же тихо: тебе хорошо? да, — ответил я, потому что мне и впрямь было хорошо, и в ту минуту я не думал ни о чем другом кроме того, что мне хорошо, не знаю, — сказал он, — кто и когда сообщил тебе, что я убил твоих родителей, да и не хочу знать, и тебе необязательно говорить мне, кто это был, меня устраивает, что, зная об этом, ты со мной и лежишь в моих объятиях, я б и сам, впрочем, все тебе рассказал, возможно даже в этом году, ведь ты уже мужчина, да, это правда, я совершил это страшное злодеяние, поскольку, исполненный веры и надежды, считал, что если на нас плащи крестоносцев и мы дали обет пожертвовать всем ради освобождения Гроба Христа из-под ига неверных, то и все, что мы делаем, правильно и необходимо, ибо служит этой единственной и высочайшей цели, то было заблуждение моей святой веры, преступление моей святой веры, — пока он говорил, я думал, что мне хорошо в его объятьях, и, думая так, увидел чрево собора Святого Петра в Шартре, подобное каменному ущелью, устремленному к небу, внизу освещенному заревом огней и погруженному в темноту вверху, на нем была только черная и длинная, по щиколотку, туника, перехваченная на бедрах золотым поясом, он давал присягу пред главным алтарем, клялся, что посвятит остаток дней освобождению Святого Гроба, рядом стоял я в богатом наряде пажа, слова присяги, умноженные эхом, сотрясали тишину под сводами храма, епископ Вильгельм стоял на верхней ступени алтаря, а он стоял над Евангелием, поддерживаемым двумя юными дьяконами, и, произнося присягу, касался мечом страниц священной книги, день был осенний, на витражах, высоко в прохладной тьме бдели святые и ангелы, вокруг, сверкая доспехами, толпились бароны, рыцари и дворяне, я видел все это, но, главное, думал, что мне хорошо в его объятьях, он говорил: теперь мне уже трудно сказать, когда я понял, что совершаю преступление и не только не приближаюсь к желанной цели, а, напротив, от нее отдаляюсь, превращая в почти недостижимую, будто на пути к вершине высокой горы скатываюсь в пропасть, быть может, впервые эта догадка озарила меня, когда, сам запятнанный кровью, я увидел тебя на огромном ложе, тоже обагренного кровью, которую я пролил, тогда, с опозданием на несколько часов, с опозданием на одну эту ночь я понял, что лишь перед теми, чьи мысли чисты и чьим поступкам сопутствует чистота, могут открыться врата Иерусалима, но сейчас, по прошествии лет, полных лишений и самоистязания, когда я делал больше, чем желал, дабы искупить причиненное мною в ослеплении верой зло, сейчас, обняв тебя, я вновь, теперь уже добровольно, закрываю перед собой врата далекого Иерусалима, так как сильней всего, что во мне есть, моя темная к тебе любовь, к тебе, который должен был стать моим сыном и наследником, но которого я давно уже вижу в мыслях своим любовником, можешь делать со мной все, что хочешь, — сказал я, когда он умолк, он же спросил: тебе это будет приятно? можешь делать со мной все, что хочешь, — повторил я, — что б ты ни сделал, мне будет приятно, и тогда это произошло, но, когда произошло, я не почувствовал себя счастливым, меня лишь переполнило неведомое прежде блаженство и обуяло желание снова его испытать, счастливым же я себя не чувствовал, потому что тогда уже понял, что он не любит меня, что ему нужно лишь мое тело, знаю, что и он это понимал, хотя старался обмануть и себя, и меня и говорил, что любит, но, говоря так, говорил неправду, ибо только к моему телу вожделел, он жаждал любви, но не способен был меня полюбить, ненасытное вожделение было его единственным настоящим чувством, знаю, не раз, обнимая меня и говоря, что любит, он думал: пустое все это, я не могу его полюбить, но и жить без него не могу, а я, когда, насытившись мной, он внезапно оставлял меня одного, думал: я — его собственность, его вещь, поэтому ему проще презирать меня, чем себя, я ненавижу его, но и себя ненавижу, так как покорно соглашаюсь на все, чего б он ни захотел, мне это приятно, а поскольку приятно, я не могу от этого отказаться, за что и ненавижу себя, я знал, что кроме меня ему нужны были другие тела, он искал их и находил, но потом снова возвращался ко мне, а я, хотя знал, что он придет, еще согретый теплом другого тела, его ждал, но однажды, когда он ушел, думая, что я сплю, впервые отправился его искать, это случилось так: я лежал навзничь на своем пурпурном плаще, подложив под голову руку, и, когда он проснулся еще при свете дня и склонился ко мне, притворился, что сплю, дышал ровно, будто был погружен в глубокий сон, он громко позвал: Алексей, я не пошевелился, было тихо, в лесной чаще посвистывала иволга, и тогда он осторожно, чтобы не разбудить меня, встал, он встал осторожно, как человек, который решил убежать, надел верхнее платье, поднял с земли плащ и меч, а потом, еще раз бросив на меня взгляд человека, который решил убежать, спустился к ручью, где, стреноженные, спокойно паслись наши лошади, тут я открыл глаза и увидел, как он подходит к своему вороному коню, освобождает его от пут и, держа за узду, ведет к тропинке, продирающейся сквозь густой подлесок, я остался один, подумал: убегает, ну и пускай, вернется, я знаю, вожделение — единственное, что в нем есть настоящего, и потом, когда помалу стало смеркаться, а я, по-прежнему обнаженный, но не чувствуя холода, лежал на своем пурпурном плаще, том самом, который сейчас, на время исповеди, снял и набросил на плечи Жаку, так вот тогда, в наступающих сумерках, оставшись один, я начал думать, но не о себе, а о том, о чем теперь думает он, я не только знал его тело и наслаждение, которое он мне дарил, его мысли я тоже знал, мне нетрудно было вообразить, что, пробираясь один в наступающих сумерках сквозь лесную чащобу, он думает: все пустое, кроме зла и стыда, утоление чувств не укрощает похоти, удовлетворенное желание порождает сотню новых, еще более жгучих, поступки, продиктованные чистейшими желаньями, увенчиваются позором, может быть, чистых желаний вообще нет? потребность в насилии и жестокости терзает человеческое нутро, человек боится ее и стыдится, но не меньше боится он и стыдится одиночества, и убегает от него, а возвратившись обратно в стадо, сильный и неистовый, творит и прославляет насилие, он слеп, глух, но силен, потому что неистов, однако наступает минута прозрения, и тогда человек снова остается один, только теперь его одиночество отягощено преступлением, имя которому одержимость, и в этом безвыходном одиночестве, в узилище тела и мыслей, он начинает искать спасения, однако напрасно ищет его, напрасно хватается за надежду найти избавление, лишь насилие позволяет забыться, насилие, не скрывающее больше своего подлинного обличья, темное и нагое, как ненависть, так мог он думать, пробираясь в одиночестве сквозь лесную чащобу, окутываемую первыми тенями сумерек, а если его взгляд ненароком упал на руки, он, должно быть, подумал: это руки убийцы, что же такое слепая вера и вера вообще в сравненье с руками, замаранными убийством, руками, которые теперь способны лишь вырывать наслаждение из покорных тел, лишь наслаждение способны брать и давать, ибо, когда тебе все изменяет, остается похоть, только похоть, а не любовь и не преданность, похоть, верная спутница одиноких, недремлющая и ищущая, не покидающая тебя даже во сне, не знающая удовлетворения, с ней и из-за нее ты идешь ко дну, так зачем убегать, если убежать нельзя? и дальше он думал: я убежал, ибо сильнее прочности обладания меня влечет зыбкость исканий, вчера, позавчера, ныне и присно меня манили и манят неведомые дали времени и пространства, которые могут предо мною открыться и порой открываются, я нетерпеливо спешу на их зов, поскольку в них может содержаться все, я знаю, что итог ожиданий — разочарование, но тень надежды, сколь она ни обманчива, мне милее, чем мысль, что надежда рассыплется в прах, всякое завоевание — крушение надежды, всякое свершение — крушение надежды, время ревниво окорачивает обладание, только страсти, хоть и они обречены на погибель, дарят легкое дыханье дням и ночам, я все это знаю, я испытал бремя этого знания, оно тяжело, как груда камней, и, как груда камней, бесплодно, эх, поехали дальше, вдруг что-нибудь да случится, так, мысля его мыслями, я лежал, подложив руку под голову, пока, запутавшись в этих мыслях и не видя его, оттого что вокруг внезапно стемнело, не приподнялся резким движением, с минуту я стоял на коленях, застигнутый врасплох темнотой, и если чего-нибудь в ту минуту желал, то лишь одного: чтобы он был рядом и своим телом защитил меня от страха, от одиночества и ото всех моих путаных мыслей, стоя на коленях во тьме, я произнес вслух: делай со мной все, что хочешь, что б ты ни сделал, мне будет приятно, потом я ехал по темному лесу, и ни его мыслей не было у меня в голове, ни собственных, только одно нетерпеливое желание мной владело: чтобы он обнял меня и своим телом защитил от одиночества, потерянности и страха, неожиданно я выехал на лесную опушку, позади, прямо за мною, неподвижной и безмолвной громадой высилась темнота, впереди, в низине, белая роса поблескивала на лугах, уподобляя их широко разлившемуся озеру, но и там царила тьма, и все живое, казалось, было ею поглощено, лишь подняв голову, я увидел вдалеке, высоко над собой на черном небе россыпь хрупких звезд и тогда, все еще терзаемый жгучей тоской по его телу и наслаждению, которое он, наслаждаясь сам, дарил и мне, взял рог, висевший у меня за спиной, и, думая о том, что мне хочется оказаться в его крепких объятиях и забыть обо всем, кроме одного: что он обнимает меня, затрубил в рог, я услышал его пронзительный голос, раздирающий темноту, потом услышал далекое эхо, повторяющее голос моего рога тающими в отдалении звуками, и затем наступила тишина, а еще через минуту из недр тьмы до меня донесся протяжный и гортанный, долго дрожавший в воздухе клич, так обычно перекликаются пастухи, он там, — подумал я и, подождав, пока далекий призыв смолкнет, опять затрубил в рог, и опять минуту спустя мне ответил из темноты тот же гортанный, дрожащий в воздухе клич, я поехал в ту сторону, все еще не сомневаясь, что его отыщу, внизу, где угадывались раздольные луга, вставала тяжелая луна в ржавой дымке, я ехал по лесной опушке обрывистой тропкой, то взбирающейся в гору, то сбегающей вниз, внизу и вправду были луга, не знаю, большой ли проделал я путь, так как, уже уверенный, что его найду, ехал не торопясь и даже было сказал себе: поверни назад, но не сделал этого и не жалею, что так поступил, поскольку сегодня знаю наверное, что какое бы ни принял тогда решенье, оно б не могло изменить того, что уже произошло, итак, я ехал неспешным шагом по опушке леса, как вдруг андалузец мой беспокойно дрогнул и, вытянув шею, запрядал ушами, я послал его вперед и, оказавшись через минуту на вершине пологого холма, увидел внизу, в каких-нибудь двухстах шагах от себя, прямо у темного края пущи костер, почти угаснувший, только крохотные язычки пламени дрожали над самой землей, возле костра, слегка наклонясь к огню и поставив ногу на камень, стоял молодой пастух, лицо его излучало свет, обнаженными руками он упирался в колено, было так тихо, что я слышал сухое потрескивание догорающих веток, тогда, — Алексей умолк и чуть погодя сказал: позволь мне, отец, помолчать немного, я бы хотел, тебе незачем спешить, — сказал старый человек, ночь близится, — сказал Алексей, мне необязательно видеть тебя, чтобы слышать, можешь идти и молчать, если тебе это нужно, и он шел и молчал, потому что ему в самом деле это было нужно: я уже собирался сказать, что вонзил шпору в бок своему жеребцу, но в эту минуту вместо себя, пришпоривающего коня, и вместо Жака, который стоял внизу, склонившись над почти угасшим костром, увидел его, а об этом, хоть я и впервые думаю вслух, мне вслух думать нельзя, я увидел его с пронзительной остротой, он произнес твердым, но спокойным голосом, каким привык отдавать приказания: такова моя воля, и не пытайся противиться ей, после чего повернулся спиной, пришпорил своего скакуна и, больше на меня не оглядываясь, спустился к реке, сейчас, хотя я иду с открытыми глазами и вижу перед собой дорогу среди просторной плоской равнины, еще светлую, но уже готовящуюся принять первые вечерние тени, вижу свои ноги, ступающие по еще не просохшей земле, вижу зеленые озерца на равнине, вижу на небе уже поблекшую радугу, слышу за спиной шаги всех, кто за мной идет, слышу очень уже далекие раскаты грома, хотя я все это вижу и слышу, но одновременно вижу широко разлившиеся желтые и вспененные воды Луары и слышу глухой шум вышедшей из берегов реки, на эту грозную стихию я гляжу как бы свысока, потому что сижу в седле, но от берега меня отделяет всего каких-нибудь два десятка шагов, я мог спасти его, я знаю, что мог его спасти, среди своих ровесников я плаваю лучше всех и мог его спасти, потому что желтые, стремительно несущиеся вперед волны не в одну секунду его поглотили, он тонул неподалеку от берега и долго противился смерти, прежде чем исчез, наконец, в пучине желтых вспененных вод, конечно он не хотел умирать, а когда почувствовал, что теряет силы и идет на дно, конечно же в заливаемых водою глазах у него стоял образ Жака, и с этим виденьем он шел на дно, в холод и шум смертоносных вод, я мог его спасти, но не двинулся с места, я думал: теперь я буду свободен, так пусть же это свершится, ведь если его не станет, я буду свободен, я буду избавлен от власти его тела и вожделения плоти, однако, когда это произошло и передо мной были уже только разлившиеся, желтые и вспененные воды Луары, я не почувствовал облегчения, сожаления, правда, я тоже не чувствовал, внутри меня все оледенело, холод закрался в сердце, холодом сковало пальцы и губы, полая вода с глухим шумом неслась совсем близко, казалось, протяни только руку: немногим раньше, когда на рассвете того же дня мы возвращались в Шартр, всю дорогу нам сопутствовало молчанье, молчание давно уже стало самой привычной нашей беседой, но те последние часы нашего последнего молчанья отличались от всех прежних часов прежнего молчания, мы ехали рядом, но были друг от друга дальше, чем если бы были слепы, глухи и немы, мы уже приближались к Луаре и слышен стал глухой шум ее разлившихся вод, когда он внезапно сказал: Алексей, да, господин мой, — ответил я, и мы продолжали свой путь в молчанье, теперь я вспоминаю, что мы ехали по сырым лугам, тогда я этих лугов не видел, а сейчас вижу, тогда я не слышал шелеста трав, приминаемых копытами наших коней, а сейчас слышу, хлюпанье же воды, которую размякшая, пересыщенная влагой земля отказывалась принимать, слышал, как, слышу сейчас, она хлюпает у меня под ногами и под ногами у человека, который идет рядом со мной и который разрешил мне молчать, я не чувствую к нему благодарности, хотя должен бы, я молчу потому, что не в состоянии думать вслух, он сказал: ничего из того, что было, зачеркнуть нельзя, но, если между двумя людьми творится неладное, не помню, что он говорил дальше, из его слов я понял только — и это запомнил — что, обогащенный чувством, дотоле ему неведомым, чувством пленительным и новым, чувством, которое из пучины сомнений и горя выносит его на простор безудержной радости… только одно я понял: в его жизни мне нет больше места, я должен вернуться в город, из которого он вынес меня на руках, когда мой родной дом пылал, а руки и губы были окроплены кровью моих родителей, которую он пролил, он говорил, это я помню и никогда не забуду: сейчас все сошлось на том, чтобы нам расстаться и чтоб моя жизнь перестала быть твоей жизнью и твоя моей, я спросил: когда мне уйти? он сказал: ты получишь все, что причитается человеку, который должен был стать моим наследником, когда мне уйти? — спросил я снова, а в памяти всплыла та минута, когда, впервые меня обняв, он сказал: ты уже мужчина, а я, не сделав даже попытки отстраниться от его наготы, спросил: правда, что ты убил моих родителей? потом он говорил: сильней всего, что во мне есть, моя темная к тебе любовь, к тебе, который должен был стать моим сыном и наследником, но которого я давно уже вижу в мыслях своим любовником, а я сказал: можешь делать со мной все, что хочешь, я думал: Жака, о котором он ничего не знал, он смог полюбить, меня же, о котором знал все, полюбить не смог и, хотя говорил вначале, что любит, сам, обнимая меня, думал: пустое все это, я не могу его полюбить, но и жить без него не могу, а теперь, так и не полюбив, решил, что может без меня жить, я думал о предстоящем мне далеком пути, но не видел его и не представлял, куда он меня заведет, еще раньше, до того как мы отправились обратно в Шартр и потянулись последние часы нашего последнего молчания, и не настало еще то мгновенье, когда его сжатый кулак в последний раз мелькнул среди желтых и вспененных вод Луары, еще до того и будто еще во сне я пробудился от глубокого сна, грудь моя горела в огне, а руки обнимали чье-то нагое тело, о котором во сне я успел забыть, я проснулся внезапно, словно вырванный из беспамятства языками огня: я лежал на своем пурпурном плаще, обнаженный, держа в объятиях обнаженную девушку, несколькими часами раньше, ночью, лежа на краю луга, я видел, как она, подгоняемая нетерпеньем, бежала к шалашу Жака, а потом увидел ее возвращающейся и тогда встал и сказал: он тебя прогнал? она спросила: сможешь сделать так, чтобы я перестала думать о нем? я сказал: раздевайся, и она разделась, я, тоже сбросив с себя одежду, стоял над нею и думал: вот, перед тобой лежит Жак, поспеши, ибо через минуту Жак перестанет быть Жаком, она лежала обнаженная на моем плаще, я впервые ступил босыми ногами на этот плащ, впервые потому, что до сих пор он служил не мне, а моему ожиданью, я ступил на свой пурпурный плащ и сказал: он тебя прогнал? сказал так, потому что не нашел других слов, а не потому, что лежащая передо мной незнакомая обнаженная девушка пробудила во мне желанье, единственно от тоски, от неутоленной жажды и одиночества я это сказал и еще раз, вовсе об этом не думая, повторил: он тебя прогнал? тогда она попросила: сделай так, чтобы я больше не думала о нем, и тут я внезапно почувствовал, что моя мужская сила — моя мужская сила, и лег на незнакомую девушку, и когда потом пробудился от глубочайшего сна, и грудь моя горела в огне, а руки обнимали чужое тело, вот тогда, открыв глаза, затуманенные тяжелым сном, я увидел его: он стоял над нами, слившимися в любовном объятии, но гнева не было на его темном лице, его глаза, такие светлые, что казались нагими, теперь были наги больше обычного, он бил нас тем самым кожаным арапником, который выронил второпях, когда я затрубил в рог, а он поспешил спрятаться от меня у Жака в шалаше, он нас бил, она, как и я пробудившись от тяжелого сна, попыталась найти защиту от первых ударов во мне, поскольку я был ближе всего, но потом, увидев его, увидев, что мы наги, а он одет и бьет нас арапником, стремительно выскользнула из моих объятий и, крича, будто ее резали, убежала, я продолжал лежать на своем плаще, он стоял надо мной и без устали меня бил, если тот человек в самом деле был когда-то моим воспитателем, он верно сказал: когда прицеливаешься и выпускаешь стрелу, больше расслабляй мышцы, усилие должно быть внутри тебя, глубоко скрытым, твоя натуга никому не должна быть видна, я лежал, принимая сильные, до крови рассекающие кожу удары, внезапно он перестал меня бить и, стоя надо мной, замер, я спросил: почему ты меня бьешь? потому, что я переспал с этой шлюхой, или потому, что, спрятавшись от меня у Жака в шалаше, ты вынужден был меня обмануть? тогда он отбросил арапник, опустился рядом со мной на колени и, желая убежать от меня, а также, наверно, и от себя, заключил меня в объятья, я знал, что он обнимает меня в последний раз, и, когда он делал со мной то, что привык делать всегда, закрыл глаза, чтобы он не заметил в них слез, я стыдился этих слез, ненавидел свою слабость и тогда дал себе клятву, что никогда в жизни больше не заплачу, потом я еще раз приехал на это место, была ночь, я стоял под деревом, где он бил меня, лежащего, а потом в последний раз обнимал, я не думал о нем, с того рассвета прошло не больше недели, но и тот час, когда он меня бил, а потом в последний раз обнимал, и более поздний час, когда, ощущая только холод в сердце и холод в пальцах и на губах, я смотрел на широко разлившиеся, желтые и вспененные воды Луары, а его уже не было, все те часы, от которых меня отделяло не больше недели, казались таким далекими, точно прошло много лет, я не думал о нем, когда вновь оказался в том самом месте, не думал о нем, но не чувствовал себя от него свободным, он как будто все это время стоял рядом со мной, да и позже, когда, дождавшись наступления сумерек, после того как пастухи уже согнали с лугов стада и тихо и пусто стало вокруг, я подъехал к шалашу Жака, он тоже будто стоял возле меня, я думал: тебе, покоящемуся в тяжелом гробу, в темном склепе под тяжелыми могильными плитами, никогда уже не увидеть того, кого, увидев однажды, ты полюбил, хотя меня, пребывавшего при тебе неотступно, полюбить не сумел, никогда больше тебе уже не вымолвить слово: люблю, а вот я живой, я сейчас увижу его и смогу сказать то, чего тебе уже не сказать, перед шалашом тлел костер, видно, только что разожженный, но Жака возле костра не было, он вышел из шалаша и показался мне еще прекраснее, чем тогда, когда я увидел его впервые, я спросил, не слезая с коня: ты меня узнаешь? да, — ответил он и, помолчав, спросил: ты один? как видишь, ищешь своего господина? нет, — ответил я, — на этот раз не ищу, после чего спешился, он молчал, не хочешь пригласить меня в свой шалаш? — спросил я, тогда он, посторонившись, сказал: входи, слабый отблеск костра едва освещал темное и тесное пространство внутри, в углу лежала подстилка из оленьих шкур, ты здесь спишь? да, — ответил он, я чувствовал его близость и мог бы коснуться его рукой, чувствовал его наготу под полотняной деревенской туникой, на мгновение мне показалось, что в царившей под сводом шалаша тишине я слышу учащенное биение его сердца, мне хотелось сказать: здесь, на этой подстилке, он обнимал тебя и говорил, что любит и будет любить всегда, мне хотелось это сказать, но я молчал, а потом наконец сказал: ты спрашиваешь, ищу ли я своего господина, не ищу, зачем искать того, кого больше нет? сам же думал: видишь, ты, стоящий возле меня, незримый и несуществующий, знай: я дышу, вижу и слышу, и пришел сюда вместо тебя, я, а не ты, заточенный в тяжелом гробу и уже бессильно гниющий, сейчас скажу: если ты пойдешь со мной и при мне останешься, я сделаю все, что ты пожелаешь, буду служить тебе и тебя защищать, буду для тебя всем, чем ты разрешишь мне быть, буду далек, если ты потребуешь, и близок, если позволишь, буду стеречь твой сон и разделять любые печали, потому что люблю тебя и твое присутствие мне нужно, как воздух, я люблю тебя с первой минуты, с тех пор, как увидел тебя, склонившегося над догоравшим костром, люблю, хотя и не знаю, рождена ли моя любовь только мной и тобой, только нами двоими, тобою и мной, или ее пробудил из небытия тот, кого уже больше нет, не знаю, узы ли, связующие нас с тобой, эта любовь или упорно не гаснущий отблеск любви иной, той, что первое свое слово успела вымолвить только раз, а затем канула в холод и шум смертоносных вод, чтоб уже никогда не претвориться в тело и слово, не знаю, откуда взялась моя к тебе любовь, но, где б ни почерпнула она свое начало, откуда бы ни пришло наваждение, я никогда не перестану тебя любить, ибо если я существую, то лишь затем, чтобы, нелюбимый сам, всей душою и плотью своей утверждать потребность в любви, так думал я в обступившей нас гробовой тишине и уже понимал, что мне нечего больше сказать, еще я подумал: ты, придавленный тяжелыми могильными плитами, я не думаю о тебе, но от тебя не освободился, и тут Жак сказал: уходи, ты не пойдешь со мной? — спросил я, нет, — сказал он, а потом спросил: ты был с ним? да, весенние реки коварны, и не смог спасти? не смог, — ответил я, — это произошло очень быстро, так камень идет на дно, и опять воцарилась тишина, огонь в костре, который никто не поддерживал, видимо, угасал, так как в шалаше стало совсем темно, но и во мраке я продолжал ощущать его близость, мог коснуться его рукой, уходи, — сказал он, тогда я снова спросил: ты не пойдешь со мной? уходи, — сказал он, я вышел, сел на коня и, во второй уже раз, поскакал вперед, к влажным пастбищам, лежащим внизу, но если тогда, в ту первую ночь, меня переполняли любовь и ревность, то теперь я чувствовал только отчаяние в сердце да пронзительный холод в пальцах и на губах, потом я остановился на краю луга возле того самого дерева, под которым он бил меня, лежащего на земле, своим арапником, а потом в последний раз обнимал, девка та появилась неожиданно, подошла ко мне и сказала: этот страшный человек опять будет нас бить? раздевайся, — ответил я, — его уже нет, он лежит в тяжелом гробу и единственное, что может делать, — поспешно гнить, потом, лежа подо мной, обнаженная, она спросила: он тебя прогнал? я взял ее, ничего не сказав, она смеялась и стонала, я входил в нее, как в широко разлившиеся, желтые и вспененные воды Луары, но перед моими открытыми глазами стояло лицо Жака, я растягивал медленно нараставшее наслажденье, чтобы подольше не исчезал этот образ, а она смеялась и стонала, любовь это только клубок недостижимых желаний, — думал я, — любовь приносит только страданья, а вот темное наслаждение рождается и живет среди ненависти и презренья, вдруг я услыхал под собой, но словно бы из дальней дали донесшийся ее короткий вскрик, прозвучавший как стон настигаемого смертью зверя, и, услышав этот короткий вскрик, почувствовал себя господином и повелителем, да, я со своей неторопливой и терпеливой мужскою силой мог чувствовать себя господином и повелителем, я был господином и повелителем этого тела, мною преображенного в покорность и стон, я твердил в мыслях: пойдешь со мной? а когда после бессонной ночи наступил рассвет, сказал: если хочешь, чтоб так было каждую ночь, можешь пойти со мной, куда? — спросила она, не все ли равно, — сказал я, — в графской опочивальне, в пустыне или в лесу, днем или ночью, лучше тебе не будет ни с кем, и она со мною пошла и каждую ночь получала то, что я ей обещал, но и с нею наедине, и среди друзей одна мысль не покидала меня, одна и та же неотвязная мысль: что-то должно произойти, что-то должно произойти во мне или вне меня, у меня было все, что может иметь человек, я был теперь Алексеем Вандомским, графом Шартрским и Блуаским, я, византийский грек Алексей Мелиссен, восемь лет назад спасенный из горящего дома и горящего города, неполнолетний еще, но законный граф, потому что Луара широко разлила свои вспененные желтые воды, однажды, когда мне не спалось, а она спала, я встал, не дожидаясь рассвета, город еще не проснулся и ворота были закрыты, я поехал куда глаза глядят и, едва забрезжило, увидел идущую по равнине толпу в полсотни детей и подростков, девочки были в белых платьях, некоторые с венками из полевых цветов на голове, мальчики — в домотканых холщовых туниках, впереди темноволосый мальчик нес крест, я загородил им дорогу своей лошадью, спросил: куда вы идете? мальчик, державший крест, сказал: в Иерусалим, ты знаешь, где Иерусалим? — спросил я, не знаю, — ответил он, как же вы туда доберетесь? не знаю, — сказал он, — все дети идут в Иерусалим, потому что там Господь наш, Иисус Христос, я посторонился, они миновали меня и пошли дальше по огромной равнине, тогда я поскакал в Клуа, но на лугах, где паслись стада, только несколько дряхлых старцев стерегли коров, я спросил одного из них: где ваши пастухи? он поднял на меня выцветшие, почти ничего не видящие глаза и, опираясь одной рукой на клюку, другую, трясущуюся, поднял над головой, которая у него тоже тряслась, да падут все несчастья, — сказал он скрипучим старческим голосом, — да падут все несчастья, голод, чума и позор на этого приблуду, который, обезумевши сам, заразил безумьем наших детей и внуков, будь проклят он и имя его, чувствуя, что бледнею, я спросил: кого ты так проклинаешь, старче? его проклинаю, — ответил старик, — приблуду этого, который, верно, отродье самого Сатаны, приблуду, что с помощью дьявольских штучек попутал наших детей и внуков, его проклинаю я и его имя, и душу его, и тело, знай же, — говорил он, — нет у нас больше ни детей, ни внуков, и в других деревнях окрест тоже пусто, ни детей, ни внуков там не осталось, всех обморочил и заразил своим безумием этот проклятый приблуда, гляди, — он воздел обе свои трясущиеся руки, в одной продолжая держать клюку, — посмотри на эти руки, никогда уже этим рукам не опереться о плечо внука, никогда не благословить внучку, идущую под венец, я уехал, не сказав ни слова, теперь я уже все знал и знал, что не вернусь в Шартр, произошло то, о чем я, не смея вымолвить вслух, мечтал, и опять, хотя это произошло, я не почувствовал облегчения, в лесу меня догнала Бланш, конь ее был взмылен, с морды клочьями летела пена, но сама Бланш не выглядела усталой, она сказала: все дети ушли сегодня утром из Шартра, знаю, — сказал я, говорят, — помолчав, продолжала она, — что во главе огромного и с каждым часом растущего полчища детей идет по нашему краю, возглашая в селеньях и городах: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы, противу бездушной слепоты рыцарей, герцогов и королей, дети христианские не оставили своим милосердием город Иерусалим… знаю, — перебил я ее, а он, навеки заточенный в тяжелый гроб, бездыханный и бессловесный, погружающийся в шум и холод смертоносных вод, а потом выброшенный ими на пустынный берег, чтоб почить, наконец, навечно в тяжелом гробу, он опять был рядом со мной, две ночи и два дня мы ехали, меняя несколько раз направленье пути, так как разные среди людей кружили слухи о том, куда движется этот крестовый поход, крестовый поход без него, покоящегося в тяжелом гробу, но порожденный его желаниями, темными страстями его тела, гниющего ныне в тяжелом гробу, наконец, на третий день, в самый полдень, когда мы выехали из леса, я увидел их под бескрайним небом, было их так много, что, казалось, вся равнина внизу плывет, мерно колышась, над этой колышащейся равниной возносились, сверкая на солнце, кресты, хоругви и образа, они тоже неторопливо плыли вперед, сливаясь с несметным множеством голов в одно целое, а над всей этой неторопливо плывущей, медленно колышащейся равниной взвивалось многоголосое пенье, потом, поравнявшись с шествием, я видел уже только посеревшую белизну платьев и туник и лица, обожженные весенним солнцем, лица тысячи мальчиков и девочек в тесных рядах, раскрасневшиеся, потные, с широко открытыми ртами дети пели, но мне, едущему на коне рядом, казалось, что их рты открыты от удивления, сковывающего маленькие фигурки в посеревших белых платьях и домотканых холщовых туниках, тяжелым облаком висела в воздухе взметенная двумя тысячами босых ног пыль, дымилась под ногами сухая нагретая солнцем земля, дети шли плотной толпой, голова к голове, плечо к плечу, бок о бок, сбившись в громадное ослепшее стадо, ослепшее, потому что никто в толпе не видел ни неба, ни земли, ничего, кроме голов и плеч идущих впереди, не мог видеть, они шли, тесно сгрудившись, будто из близости своих тел черпали силы для предстоящего неведомого пути, а пронзительный крик, издаваемый тысячью детских голосов, крик, вырывающийся из тысячи разверстых в недоумении ртов, раздирал огромное пространство над этим тесно сбитым, медленно, в пыли, под палящим солнцем движущимся скопищем, во главе этой колышащейся, катящейся вперед равнины шел он, за его спиной гремело многоголосое пенье, но сам он был спокоен и тих, шел, выпрямившись, легко касаясь босыми ногами земли, и лишь у него, единственного среди всех, равнина перед задумчивым взором была неподвижна, я видел его в третий раз, но впервые при свете дня, сейчас вот так, одиноко идущий, он показался мне моложе, чем когда я видел его в окружении ночных теней, я подъехал к нему, и он тотчас остановился, остановилось также все шествие, и пенье стало постепенно стихать, ты меня узнаешь? — спросил я, да, — ответил он, а вокруг уже была тишина, я соскочил с коня и сказал: ты не захотел пойти со мной, что ж, тогда я с тобой пойду, а говоря так, думал: никто больше тебя не нуждается в любви и заботе, никто меньше тебя не знает жизни и не знает людей, ты беспомощен, как слеза, и более одинок, чем самый одинокий человек на земле, и растерян больше, чем любой из потерявших себя на этой земле людей, ты одинок и растерян, хотя за тобою огромная следует толпа, никто больше тебя не нуждается в любви и заботе, я сказал Бланш: слезай с лошади, а когда она беспрекословно повиновалась, взял ее коня за узду, другой рукой схватил поводья своего белого андалузца и подвел обоих коней к Жаку, выбирай, какой больше нравится, — сказал я, — раз ты возглавляешь крестовый поход, нельзя тебе идти, как всем остальным, пешком, возьми, какой тебе больше по вкусу, а я буду ехать рядом и исполнять все твои приказанья, он стоял в двух шагах от меня, хрупкий и светловолосый, одинокий и растерянный, даже в своей красоте одинок, близкий и более далекий, чем когда-либо, я сказал негромко, чтобы не так было слышно в моем голосе отчаянье: сделай, как я прошу, он, будь сегодня жив, поступил бы так же, Жак помолчал немного, потом сказал: нет, я буду идти пешком, как все, ты ж, если хочешь, можешь ехать верхом, тогда я без единого слова вытащил из ножен свой короткий охотничий меч и с маху по самую рукоять всадил острие в гладкую лоснящуюся шею своего скакуна, он лежал у моих ног с бельмом смерти в глазах, белый и огромный, предсмертная дрожь сотрясала его брюхо и стройные ноги, а когда я склонился над ним и вытащил меч из шеи, из раны ручьем стремительно хлынула кровь, дай, — сказала Бланш, протягивая руку к мечу, я молча ее отстранил и, отведя в сторону второго коня, снял с него седло и забросил в траву, а потом вынул изо рта удила, конь, чувствуя поблизости запах крови, раздувал ноздри и беспокойно прядал ушами, я сильно хлестнул его по крупу ременной уздой, он взвился на дыбы и, получив еще раз уздой, поскакал прочь, я проводил его взглядом, он мчался стремглав по плоской равнине, и желтая туча пыли взметывалась из-под его копыт, к Жаку — нагретый воздух пропитывался густым запахом свежей крови — к Жаку подошел черноволосый мальчик с большими темными и влажными глазами, на нем было темно-зеленое, до половины голени, шерстяное платье, какие обыкновенно носили горожане, он сказал: мы ничего не ели со вчерашнего дня, Жак, мы голодны, позволь, мы сделаем это, я сказал: позволь, они сделают это, и тут увидел стоявшую неподалеку девушку, она была очень красивая, светлая, и слезы текли у нее по щекам, потом я узнал, что зовут ее Мод, что она любит Жака и поддержала его, когда, более одинокий, чем самый одинокий человек на земле, он впервые сказал: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы, противу бездушной слепоты рыцарей, герцогов и королей, дети христианские не оставили милостью своей и милосердием город Иерусалим, я тогда ее ненавидел, ненавидел ее слезы и повторил еще раз: если они голодны, позволь, они сделают это, им нельзя быть голодными, мяса хватит на всех, посреди пустынной, палимой солнцем равнины в самый полдень запылал огромный костер, и тут я впервые, хотя видел его уже в третий раз, заметил у него на правой руке перстень, глупец, — подумал я, глядя в костер, вокруг которого, словно громадные мотыльки, сновали мальчики в туниках, едва прикрывающих наготу, а другие сдирали с убитой лошади шкуру, глупец, рука, которую украшал этот перстень, гниет теперь в тяжелом гробу, а ведь она обнимала меня каждую ночь, блуждала в темноте по моему телу, глупец, — запах кровавого мяса расползался в нагретом солнцем воздухе — глупец, кого ты любишь и кого вожделеешь? когда они расхватали недожаренное, почти совсем еще сырое мясо, я сказал: прикажи им запеть, и он так и сделал, еще не успели обсохнуть омоченные свежей кровью кости и тяжелые мухи тучами над ними роились, когда, прости, отец, — сказал Алексей, — мое затянувшееся молчание, но как только исповедь подошла к концу и осталось лишь в двух-трех словах рассказать о том, что со мной было дальше, я подумал, что перед завершением исповеди надо еще раз вернуться в прошлое, дабы, побывав в нем, убедиться, что моя совесть чиста, что ничего из своего прошлого я не утаил и рассказал все доподлинно так, как оно было на самом деле, благодетеля своего и опекуна в шалаше пастуха Жака я не нашел, а отыскал уже на рассвете, впустую проблуждав по окрестностям целую ночь, ранним утром мы возвращались в Шартр, и тогда произошло это, ничем не искупленное несчастье, тяжелое, всей своей жесткой толщей впитавшее влагу сукно рясы по-прежнему неотвязным пронизывающим холодом обнимало тело старого человека, тяжело припечатывая землю отекшими ступнями, он думал: я, старик, у которого уже нет иных стремлений, кроме как уберечь вступающих в жизнь от ошибок собственной молодости, я, чье тело уже ни в ком не может возбудить желанье, хотя это же полумертвое тело, это же тело, обтянутое дряблой кожей, до сих пор продолжает сотрясать благословенная и исступленная дрожь вожделенья, я, которого никто не захочет обнять, чтобы запечатлеть на моих увядших губах поцелуй и прижаться устами юности к моим уже увядшим устам, я, обманывающий самого себя и обманывающий тех, кого могу обманывать, чтоб обмануть самого себя, я, призываемый смертью, но все еще жаждущий отдаться молодости, не знающий удовлетворения, ибо желание догнать уходящую молодость не может быть удовлетворено, я, который отверг все блага и богатства и, как предательский след, стер из памяти живых свое имя, Боже, смилуйся надо мной, Боже, я, который, будучи обуян гордыней неправедного смирения и одержим ложной идеей служенья добру, взвалил на свои плечи непосильный груз, я думал: если Бог действительно коснулся перстом мертвой земли и с земли восстала молодость, обещая свершенья, дотоле недоступные никому из живых, Боже, да будет так, я думал: я, не чуждый никакого греха, я, изведавший в полной мере всяческие заблужденья, я, которому, несмотря на монашеское облачение и дряблую кожу, и увядшие губы, и стопы, являющие собой оскорбление радости и гармонии, равно знакомы дно темных бездн и призрачный блеск неисполнимых желаний, я, великий и всемогущий Боже, слышал его, когда он думал: великий и всемогущий Боже, которого никогда не было и нет, великий Боже, существующий лишь потому, что существуют наши несчастья, я слышал все его мысли, ибо в его молчании обретал самого себя, я, которому доверилась тысяча невинных детей, так как все, кто открывали мне свои прегрешенья, воистину были детьми и их невинность была истинной невинностью их тел, а не душ, поскольку душ у них еще нет, будь у них души, они уже не были б невинны, но ведь и я, с глаз которого за последние несколько часов спала пелена призрачных надежд, потому что, сам исполненный темных страстей, навстречу походу юности я вышел с одной только целью: обрести себя в чужих признаниях и с помощью чужих желаний еще раз, возможно уже последний, самому вкусить радость самоотречения, ведь за последние несколько часов я услышал столько правдивых признаний и так много лжи, и ничуть не меньше молчанья, скрывающего и правду и ложь, что, хотя все знаю, лгу, ибо, зная все, не знаю, как с этим знанием поступить, Господи, сделай так, чтобы не сбылся мой ужасный сон и чтоб врата Иерусалима не оказались мертвой пустыней, вот сейчас он идет рядом со мной и произносит слова, в которых нет ничего, кроме лжи, хотя нет, я не прав, то, в чем он сейчас исповедуется, не ложь, а далекий, как свет звезды, отблеск сокрытой правды, пока я еще к этому не готов, через минуту, когда он умолкнет, я подниму руку, чтобы благословить его и отпустить согрешенья, но не ему, а себе, и ради себя, а не ради него я испрашиваю отпущенье грехов, все, кто лгут, поступают так от слабости и от страха, его ложь — моя ложь, а теперь я поднимаю руку и говорю: да простит тебе всемогущий Господь твои прегрешенья, так, как я их прощаю, во имя Отца и Сына, и Духа Святого, отец, — сказал Алексей Мелиссен, — сейчас, когда я уже очистился от грехов, позволь, отец, обратиться к тебе с просьбой: все мы, идущие в далекий Иерусалим, уже исповедались и получили отпущенье грехов и твое благословение, только один среди нас еще не исповедался, и это — Жак из Клуа, я знаю, у окошка исповедальни все мы равны, но раз уж случилось, что лишь одного из нас Бог избрал, чтобы через него и его устами к нам воззвать, и этот единственный избранник именно он, Жак из Клуа, наш предводитель, за которым идем мы все и пойдут те, что к нам еще присоединятся, постарайся, отец, отличить его в глазах идущих за ним, разве они уже не поняли, что он не такой, как все? — спросил старый человек, потому я и прошу, чтобы ты остановился и подождал, покуда он к тебе подойдет, а едва он приблизится, благословил его, не ему, отец, это нужно, он скромен и чист, и лишен гордыни, подтверждение его особости нужно нам, я прошу тебя об этом, отец, ради нас, а не ради него, старый человек думал, по-прежнему тяжело припечатывая усталыми стопами сырую землю: вот сейчас, немедленно, я должен остановиться и сам, в одиночку, задержать этот поход безумия, безумия и невинности, безумия и страстей, страстей и лжи, но пока не нахожу в себе сил, чтоб восстать против своих же надежд и стремлений, я искал источники и нашел их отравленными, я пытался убежать от самого себя и в этом бегстве, бегстве от себя, не в состоянии от себя оторваться, здесь искал я поддержку своим умирающим надеждам, у юности искал поддержку своей угасающей старости, но мне еще недостает отваги, чтобы перечеркнуть все это и позволить тьме бесповоротно себя поглотить, уже лишенный надежды, я еще ее жажду, ибо последняя надежда — не надежда вовсе, а потребность в ней, и легче все надежды похоронить, легче следить за их агонией, нежели задушить в себе потребность иметь надежду, ты, который во времена оны сказал: Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, прости, что и я, не на кресте распятый, но привязанный к юности, которая тяжелей креста, надвигались ранние весенние сумерки, и уже первые тени апрельской ночи ложились на бескрайнюю равнину, первыми, пока еще испятнанными отблесками уходящего солнца тенями полнились земля, воздух и небо, итак, когда ранние весенние сумерки начали неторопливо сгущаться и с исхлестанной ливнем земли стал подыматься туман, размывая форму и земли и неба и теряя очертания сам, когда рядом со стоящим в молчании старым человеком Алексей поднял руку и, подчиняясь этому знаку, все вдруг мгновенно замерло, только к крестам, хоругвям и образам, застывшим над недвижным множеством голов и плечей, возносились подобно церковному ладану ленивые клочья тумана, которые последний луч солнца одарял последними, уже угасающими бликами, и стало тихо, все стало тишиной и оцепененьем, когда Жак в своей полотняной тунике, не скрывающей наготы его рук и ног, но в пурпурном плаще на обнаженных плечах, направился к старому человеку, который стоял посреди дороги, обернувшись к нему лицом, огромный в своей тяжелой рясе на фоне плоской и безмолвной равнины, устланной первыми тенями весенней ночи, хрупкий и светловолосый Жак шел своим обычным мальчишечьим шагом, но казалось, он не по ровной дороге идет, а по высоким незримым ступеням подымается к высокой, выбранной изо многих тысяч цели, которая лишь ему открыла тайну своего существованья, он остановился в двух шагах от старого человека, который по-прежнему стоял не шевелясь и его ждал, он остановился перед ним, хрупкий и светловолосый, в пурпурном плаще, но прежде чем преклонить колена, поднял обе руки и сбросил плащ с плеч, не спускавший с него глаз Алексей, стоявший рядом, поднял плащ с земли, и тогда каждый в плотной толпе, замершей посреди устланной первыми тенями весенней ночи равнины, смог увидеть, что тот, кто три долгих дня выслушивал исповеди, а потом отпускал прегрешенья и благословлял, теперь, огромный в своей тяжелой бурой рясе на фоне плоской и безмолвной равнины, устланной первыми тенями весенней ночи, поднимает руку и медленно чертит знаменье креста над головою того, кто преклонил перед ним колена, теперь я уже знаю, — думал старый человек, — что мою руку направляет не Бог, а призрачная надежда, будто в юности можно отыскать смысл и порядок мирского бытия, через минуту, когда он начнет говорить, мне придется расстаться со всякой надеждой и даже с желанием иметь надежду, и единственное, что останется сделать… идущий рядом с ним Жак говорил: мое имя Жак, меня называют Жаком из Клуа, но я не знаю, где родился, потому что у меня нет ни матери, ни отца, пятнадцать лет назад меня грудным младенцем нашли на церковной паперти в Клуа, а поскольку был день святого Иакова, при крещении нарекли в его честь Жаком, хрупкий и светловолосый, он шел рядом со старым человеком, слегка склонив к нему голову, тень длинных ресниц падала ему на щеки, так как глаза его были полузакрыты, он говорил сосредоточенно и негромко: жизнь моя началась лишь недавно, после того как однажды бессонной ночью я услышал во тьме голос, говоривший: покинь свой шалаш, Жак, пойди к детям и, где бы ты их ни нашел, в малом или в большом числе, скажи им: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы, противу бездушной слепоты рыцарей, герцогов и королей, дети христианские не оставили милосердием город Иерусалим, пребывающий в руках нечестивых турок, Господь всемогущий избрал вас, ибо скорее, нежели любая мощь на суше и на море, чистая вера и невинность детей величайшие могут сотворить деянья, сжальтесь над Святой Землей и одиноким Гробом Господним, так сказал мне голос в ночной темноте, когда я лежал без сна, и в голосе этом я узнал голос человека, который, первый и единственный, поведал мне о печальной участи города Иерусалима и об одиночестве Гроба Господня, после чего я, прежде живший как слепой и глухой, благодаря этому человеку прозрел и обрел слух, поэтому, когда я узнал его голос в голосе, заговорившем со мной в ночной темноте, и когда тот же голос и в последующие ночи обращался ко мне, торопя исполнить то, к чему он меня призывал, я не смог ослушаться и не последовать его призыву, человеком, который первый поведал мне о печальной участи города Иерусалима, был славный рыцарь, Людовик Вандомский, граф Шартрский и Блуаский, это он, отец, незадолго до того, как внезапная смерть вырвала его из сонма живых, меня пробудил, его волею я, прежде слепой и глухой, в одночасье обрел слух и прозрел, некоторое время они шли в молчании, если бы я был с ним, я сумел бы его спасти, — думал Жак, не ложь, а правда сокрушает надежду, — думал старый человек, все еще не зная, как ему поступить, Жак продолжал: первый раз в жизни и вместе с тем последний раз, так как мне не суждено было никогда больше встретиться с ним живым, я увидел его весенним вечером, когда наши стада уже ушли с пастбища, а я, оставшись один, развел костер неподалеку от своего шалаша, я стоял, наклонясь к огню, и тут он появился передо мной на великолепном вороном жеребце, появился нежданно-негаданно, я не знал, кто он такой, я никогда раньше не видел его, судя по облику и одежде, то был рыцарь благороднейшего рожденья, помню: на нем было длинное шелковое темнозеленое платье, а поверх, под черным плащом, лиловый, подбитый беличьим мехом дублет, лицо у него было еще не старое, хотя изрытое темными бороздами, узкое и сухое, с острым носом и глубоко посаженными глазами, такими светлыми, что они казались нагими, этот человек несчастлив, — взглянув на него, подумал я, после недолгого молчания он спросил: ты пастух? да, господин, — ответил я, как тебя зовут? а когда я сказал, что Жак, указал рукой на шалаш и спросил: это твой шалаш? да, господин, — ответил я, а твои товарищи? ночуют в деревне, — ответил я, — это только мой шалаш, тогда он спешился и подошел к костру, озяб? — спросил он, протягивая обе руки к огню, нет, — сказал я, — мне нравится смотреть в огонь, а поскольку он молчал, продолжая греть над костром руки, осмелился спросить: вы, наверное, заблудились? ты знаешь дорогу в Шартр? Шартр там, — сказал я и показал рукой, — там, где полуночная звезда, если без промедленья отправитесь в путь, к утру попадете в Шартр, ночь была очень светлая, так как полная луна уже восходила над лугами внизу, я подумал, что сейчас он уедет, и взмолился в мыслях, чтобы этого не случилось, ты бывал в Шартре? — спросил он, нет, господин, — ответил я, — я никогда не был в Шартре, но хотел бы увидеть собор, который строит граф Людовик, говорят, это будет самый прекрасный храм в мире, он с минуту молча приглядывался ко мне, потом сказал: граф Людовик? кто ж такой этот граф Людовик? тут я понял, что он, должно быть, впервые попал в наши края, и сказал: хозяин всей этой земли, владелец Вандома, граф Шартрский и Блуаский, всего-то? — сказал он, о нет! — воскликнул я, — он прославленный рыцарь, поклявшийся завоевать Иерусалим и вызволить Гроб Господень из рук неверных, внезапно из глубины ночи донеслись веселые звуки лютни, которым вторили цимбалы и тамбурины, в нашей деревне гулянье, — сказал я, потому что в самом деле в тот вечер вся деревня гуляла на свадьбе Агнессы, старшей сестры Мод, опять я подумал, что сейчас он уедет, и сказал: если не хотите ехать в темноте, в Клуа можно найти удобный ночлег, я предпочел бы воспользоваться твоим гостеприимством, — сказал он в ответ, а у меня сильнее забилось сердце, шутите, господин, мой шалаш убог, ты его не любишь? о нет! — воскликнул я, — я очень его люблю, тогда он улыбнулся, и его светлые глаза показались мне еще светлее, значит, твои чувства превращают его во дворец, — сказал он, — подумай, что толку от великолепия, если оно вызывает презрение или неприязнь? богатство в таком случае утрачивает свой блеск, красота — привлекательность, а мощь — силу, только любовь способна какую угодно вещь, даже наискромнейшую, сделать прекрасной, помню, он хотел еще что-то сказать, начал: любовь, но замолчал, потому что невдалеке, в той стороне, откуда он вероятно приехал, раздался пронзительный голос охотничьего рога, его ищут, — подумал я, а также подумал, что еще ни с одним человеком мне не было так хорошо, как с ним, хотя я видел его впервые в жизни и ничего про него не знал, тем временем он подошел к своему скакуну и, схватив за узду, отвел в лес, в тишине я услышал, что он привязывает коня к дереву, после чего вернулся к костру, и тогда снова затрубил рог, Жак, — сказал он, — ты можешь крикнуть достаточно громко, чтобы тебя услышал тот человек? возликовав в душе, что он попросил меня оказать услугу, пусть даже такую ничтожную, я улыбнулся и, не снимая с камня ноги, только слегка запрокинув голову, без труда, потому что владел этим уменьем не первый год, послал вперед, в тишину ночи, протяжный и гортанный пастуший, долго не замирающий в воздухе клич, едва его звуки смолкли, вновь коротко отозвался рог, я никогда больше его не увижу, — подумал я, и тут он сказал: сейчас сюда должен явиться мой паж, если он спросит, не проезжал ли здесь одинокий рыцарь, скажешь ему, что да, проезжал часа два или три назад, спросил, где дорога в Шартр, и ускакал немедля, а вы, господин? — тихо спросил я, никогда в жизни, отец, я не лгал, но в ту минуту не думал, что мне придется солгать, я испытывал только радость при мысли о том, что могу ему услужить, я подожду в твоем шалаше, — сказал он, — мой паж знает, что я люблю побыть иногда один, в Шартре он отыщет меня, прячьтесь скорей, — сказал я, потому что уже слышен был топот копыт, и он скрылся в моем шалаше, топот стремительно приближался, вскоре на склоне, нависающем над костром, показался залитый лунным светом всадник на белом коне, остановившись на краю пущи, он постоял там с минуту, я видел, как он поднес руку к глазам и внимательно огляделся вокруг, а затем галопом съехал вниз по отлогому склону, мне показалось, еще мгновенье и он на меня наедет, но в каких-нибудь трех шагах он так резко натянул поводья, что жеребец под ним, вскинув передние ноги, задом осел на землю, всадник был немногим старше меня, ему могло быть лет шестнадцать от силы, темноволосый, смуглый, крепко сложенный, он был одет в короткую серебристую тунику, облегающие ноговицы из зеленого полотна и кожаные полусапожки, короткий меч висел у его пояса, с плеч ниспадал пурпурный плащ, статный жеребец нетерпеливо рвался из-под него, но он, выпрямившись, крепко на нем держался и, хотя сам пребывал в непрестанном движении, ни на секунду не отводил от меня, стоящего у костра, угрюмого взгляда своих темных глаз, ты кричал? — спросил он, да, — ответил я, как тебя звать? Жак, — сказал я, а меня Алексей Мелиссен, — сказал он, — проезжал здесь одинокий рыцарь? часа три назад, еще засветло, и что? спрашивал, где дорога в Шартр, и что? — требовательно повторил он, Шартр там, — я показал рукой, давно он уехал? немедля, — ответил я, — должно быть, очень спешил, он все еще не сводил с меня своих темных угрюмых глаз, ты уверен, что тот рыцарь уехал? не веришь? верю, — сказал он и, обогнув меня, подъехал к шалашу, с чего б мне не верить, — сказал он громче, чем говорил до сих пор, — у Людовика Вандомского, графа Шартрского и Блуаского, нет причин скрываться от своего питомца и наследника, после чего внезапно нагнулся до самой земли и, подняв ременный арапник, лежавший на траве у входа в шалаш, подъехал, держа в руке этот арапник, ко мне, ты прав, — сказал он, — мой господин, должно быть, в самом деле спешил, иначе бы заметил потерю, с минуту мы молча смотрели друг другу в глаза, до тех пор, отец, мне неведомо было чувство ненависти, но в ту минуту я его ненавидел, до свидания, Жак, — сказал он, — мы еще встретимся, и, хлестнув арапником своего жеребца, поскакал вниз по склону к лугам, внизу, обернувшись, он поднял и протянул в мою сторону руку, но я не пошевелился, я стоял у костра, пламя уже погасло, и и только едва тлели в золе угольки, всадник быстро отдалялся, недолгое время еще маячил белый, словно бы над землей несущийся силуэт его скакуна, но вскоре и тот исчез в подернутом туманной дымкой пространстве, было тихо, высокие звуки лютни плели вдалеке задорную плясовую мелодию, я продолжал стоять возле догорающего костра, как вдруг, не услышав шагов, столь они были бесшумны, увидел у своих ног тень приближающегося человека, он остановился у меня за спиной, постоял молча и наконец произнес вполголоса: благодарю тебя, Жак, тогда я сказал, наверно еще тише, чем он: я угадал в вас благородного рыцаря, но не думал, что вы — могущественный властелин всех этих земель, он же, по-прежнему стоя за мной, но всего в каком-нибудь полушаге, воскликнул: я — могущественный властелин? поверь, мое могущество — одна видимость, видимость и призрачный обман, ты даже представить себе не можешь, сколь несхож с Людовиком, существующим в твоем воображении, Людовик, который стоит рядом с тобой, из нас двоих ты стократ богаче Людовика, ты молод, красив, а взгляд твоих глаз сразу, едва я тебя увидел, сказал мне, что душа твоя тоже прекрасна и чиста, укажи мне богатства больше тех, которыми ты владеешь, еще минуту назад, когда я стоял во тьме шалаша, ты казался мне сонным мороком, чересчур совершенным, чтобы существовать въяве, но, к счастью, это не сон, а явь, чувства меня не обманывают, я тебя вижу, касаюсь рукой твоего плеча, трогательно вздрагивающего от моего прикосновенья, ты живешь, двигаешься, существуешь, а если кажешься сотворенным из иной нежели все прочие люди, материи, то потому, наверно, что природа в результате своих таинственных и непонятных действий, а главным образом благодаря божественному вдохновению, которым она наделена, единожды только способна из обычных начал создать столь совершенное существо, одарив чудесной неповторимостью как целое, так и отдельные части, после чего, поскольку я молчал, мягко повернул меня к себе и спросил: тебе еще никто не говорил, что ты прекрасен? я ответил: так, как вы, господин, никто, и сказал правду, потому что не знал своего лица, и, хотя слышал, что в деревне меня все чаще называют не как прежде, Жаком Найденышем, а Жаком Прекрасным, никто до сих пор так, как он, об этом не говорил, я видел его лицо совсем близко от своего, немного помолчав, он сказал: может быть, тебе это неприятно? нет, что вы, господин, говорите, мне вовсе не неприятно, — ответил я, потому что так оно в самом деле и было, тогда он положил руку мне на плечо и сказал: поздно уже, пора спать, — на мгновение, потому что глаза его были полузакрыты, а весенние сумерки все плотнее укутывали тенями землю, Жаку показалось, будто вокруг него ночь и, в ночном покое и тишине, он идет бок о бок с тем человеком к стоящему невдалеке от костра шалашу, еще секунда, и они бы туда вошли, но тут ночную тьму разредил хриплый грай летящих над самой землей ворон, были сумерки посреди просторной весенней равнины, Жак услышал тяжелое дыхание идущего возле старого человека и продолжал: потом мы лежали рядом на моей жесткой подстилке, помню, он говорил: когда я ехал один по лесу, мне было чертовски грустно, мир казался огромной скуделью нужды и страданий, человек — заблудшей тварью, жизнь — лишенной надежд, но едва я увидел тебя, стоящего у костра, тотчас же мрак, объемлющий мир, сделался не таким беспросветным, участь человека — не столь безнадежной, жизнь — еще не растерявшей остатков тепла, подумай, какими богатствами ты владеешь, если одним своим существованьем способен воскрешать надежду, убивать надежду, — думал старый человек, — ибо надежду убивает не ложь, а правда, теперь он уже, кажется, знал, что должен сделать, хотя еще не знал, достанет ли ему на это сил, я лежал навзничь, с открытыми глазами, надо мной была темнота, а над ней — просачивающийся сквозь свод шалаша тусклый свет луны, я хотел было сказать: ты меня не знаешь, господин, но тут услыхал снаружи тихий шелест чьих-то шагов, поднялся и вышел из шалаша, в стоящей передо мной девушке я сразу узнал Бланш, кого ты ищешь? — спросил я, тебя, — ответила она, — поцелуй меня, я промолчал, и она подошла ближе, дуреха Мод, — сказала она, — льет слезы из-за того, что ты не пришел на свадьбу и она не может вперить в тебя тоскливый взор, я не такая, мне не нужно, чтобы ты на меня пялил глаза, темнота твоего шалаша мне подходит, можешь не видеть меня, и я могу тебя не видеть, достаточно, что ты возьмешь меня, как берет женщину мужчина, уходи, — сказал я, боишься? — засмеялась она, — если у тебя никогда еще не было девушки, я тебя научу, увидишь: возьмешь меня один раз, и тебе захочется делать это со мной каждую ночь, уходи, — повторил я, она стояла так близко, что я видел, как она побледнела и глаза ее потемнели и сузились, кто у тебя в шалаше? — спросила она, никого, — ответил я, врешь, — и хотела меня ударить, но я помешал ей, схватив за запястье, она рванулась: пусти, — и, когда я разжал пальцы, сказала, быстро дыша: ты еще будешь на коленях умолять меня, чтобы я тебе отдалась, мне не пришлось в третий раз повторять: уходи, потому что, резко повернувшись, она побежала вниз, к лугам, я еще постоял немного, а когда она скрылась из виду, вернулся в шалаш и лег на подстилку, я не видел его, но знал, что и он не спит, мы долго молча лежали рядом, наконец он спросил: это была твоя девушка? у меня нет девушки, — ответил я, почему? — спросил он, не знаю, — ответил я, — наверное потому, что я никого не люблю, зато тебя любят, — сказал он, не знаю, — ответил я, и снова настала тишина, я слышал, как стрекочут цикады в траве возле шалаша, и думал: не знаю, кем был мой отец, мне бы хотелось, чтобы он был моим отцом, засыпаешь? — тихо спросил он, нет, господин, мне тоже не спится, — сказал он, и я почувствовал, что он закинул обе руки под голову, твои родители живы? — спросил он, я про своих родителей ничего не знаю, — сказал я, — не знаю, кем был мой отец и кем была моя мать, один старик из нашей деревни, старый ключарь, рассказывал как-то, что, когда меня грудным младенцем нашли на паперти, разразилась гроза, но быстро кончилась, выглянуло солнце, и огромная радуга появилась на небе, ты бы мог быть моим сыном, — сказал он, — мне б хотелось иметь такого сына, как ты, я бы знал, что он может совершить то, чего я совершить не сумел, я чувствовал, что под незакрытыми веками у меня закипают слезы, мне было хорошо, как еще никогда в жизни, ты не знаешь меня, господин, — сказал я, и тогда он сказал: если человек только непостижимая тайна, другому человеку трудно его полюбить, но если в нем нет ничего потаенного, полюбить его невозможно, ибо любовь — поиск и узнавание, влечение и неуверенность, торопливость и ожидание, всегда ожидание, даже если ждать невмоготу, любовь это особое и неповторимое состояние, сочетающее в себе чистые и темные желанья и страсти, особое и неповторимое состояние, когда желанья и страсти жаждут удовлетворения, но не хотят переступать той последней черты, за которой оно будет полным, ибо любовь, по природе своей будучи неистовой потребностью удовлетворения желаний, с удовлетворением себя не отождествляет, любовь не удовлетворение и не способна им стать, зная тебя, я б не мог устремить к тебе свои желанья, так как для них только неведомое вместилище пригодно, однако, если б я ничего о тебе не знал и ни о чем не мог догадаться, я бы тоже отпрянул от тебя, словно от предательского ущелья в горах или стремительного речного водоворота, любовь — зов и поиск, она хочет все подчинить себе, но всякое удовлетворение желаний ее убивает, она вечно томима жаждой, но всякое удовлетворение желаний умерщвляет ее, любовь — отчаянье средь несовместимых стихий, одиночество средь несовместимых стихий, но вместе с тем и надежда, неугасимая надежда средь несовместимых стихий — слушая эти слова, старый человек, думал: тебе одному, самому чистому и невинному из всех, тебе, не сказавшему ни слова неправды и даже тени мысли не затаившему, тебе одному я не могу отпустить прегрешенья и тебя одного не могу благословить — я запомнил слово в слово все, что он говорил, а так как всего, что он говорил, не понимал, слушал его слова как музыку и сейчас, идя рядом с тобой, отец, могу все сказанное той ночью, когда я лежал возле него и перед моими открытыми глазами была темнота, а над ней — просачивающийся сквозь свод шалаша тусклый свет луны, все, сказанное той ночью, когда я лежал возле него, затаив дыханье, я могу повторить слово в слово, будто эти слова живы сейчас, будто они тут, рядом со мной, в какое-то мгновенье я сказал: господин, у меня никогда не было отца, он долго молчал и наконец, даже не шевельнув рукой, чтобы, как сына, меня обнять, чего я жаждал больше всего на свете, сказал: здесь, на земле, христианин может стремиться к свершению множества благородных деяний и множество благородных деяний может свершить, но, к чему бы он ни стремился и что бы ни совершил, все помыслы и дела должны, подобно звездам, бледнеющим при свете дня, побледнеть и померкнуть пред высочайшим назначением, а высочайшее назначенье — далекий город Иерусалим и в нем — одинокий Гроб Иисуса Христа, который — и это позор всех христиан и несмываемый позор каждого христианина — долгие годы пребывает в руках нечестивых турок, Бог мне свидетель, — продолжал он, немного помолчав, — я говорю это не потому, что уже не одно столетье, с тех пор, как величайший христианский рыцарь Готфрид Бульонский после унизительной многовековой неволи первым принес Гробу Господню свободу, все мои предки, все графы Шартрские и Блуаские, не жалея своих богатств и всяческие принося жертвы, служили Гробу Иисуса в его превратной судьбе, в часы его торжеств и в часы подневольного одиночества, я не потому это говорю, Бог мне свидетель, чтобы самоотверженностью и рыцарской славой предков оправдать свою безрассудную гордыню, а потому, что высочайшая эта цель, взывающая к совести христианина, одинокий Гроб Господень, пребывающий в далеком Иерусалиме под игом неверных, постоянно меня влекла, сколько я себя помню, она была со мною всегда, да и сейчас, хотя я уже знаю, что никогда не войду в ворота Иерусалима и никогда мне не будет даровано счастье искупить свои вины и прегрешенья у Гроба Иисуса, и сейчас эта недостижимая цель, величайший образец самоотверженности и вершина славы, при мне, здесь, не дальше чем ты, лежащий рядом, когда он говорил это, понизив голос, но очень отчетливо, я лежал возле него не шевелясь, по-прежнему навзничь и с открытыми глазами, затаив дыханье, с ног до головы скованный странной немочью, немочью, которая была и радостью, и печалью, мне казалось, что стоит закрыть глаза и я увижу под сомкнутыми веками мощные ворота и громадные стены далекого Иерусалима, а затем и одинокий Гроб Иисуса Христа, однако я не закрывал глаз, лежал, затаив дыханье, ты спишь? — спросил он, нет, господин, — ответил я, помню, прежде чем снова заговорить, он долго молчал, а, заговорив, сказал: когда я был чуть постарше, чем ты сейчас, я совершил множество тяжких проступков, не знаю, в слепой ли вере не замечая вокруг себя зла или оттого, что зло сидело во мне, а я своею верой хотел его усыпить, как бы то ни было, жертвою ли зла я стал или творил зло потому, что этого требовало мое естество, в том пространстве времени, что уже у меня за спиной, мои поступки навечно останутся моими поступками, и ни первоначального их образа, ни различных превращений в дальнейшем не в состоянии изменить ни моя добрая, ни моя злая воля, он опять умолк, и помню, на этот раз молчал еще дольше, чем прежде, пока, наконец, не заговорил: я был чуть старше, чем ты сейчас, когда начал сбываться сон моего детства и ранней юности, сон страстных желаний и тревог, который внезапно стал обретать форму жизни, каждый из длинной череды дней, когда мы по чужим землям двигались на восток, а потом плыли по морю на венецианских галерах, каждый из этих дней приближал меня к долгожданному освобождению Гроба Господня, я не знал тогда, даже в ту весеннюю ночь, когда мы, рыцари Христовы в белых плащах крестоносцев, осадили могучие стены и бастионы Константинополя вместо того, чтобы поспешать к стенам Иерусалима, и затем, вместо того, чтобы штурмовать стены и башни Иерусалима, ворвались в христианский город, неся с собой огонь и уничтожение, чиня насилье, даже в ту страшную ночь нашего вероломства, когда восторжествовало стремление к земному господству и земным завоеваниям, даже вступая в ту ночь измены Христу и делая то же, что делали другие рыцари, я не понимал, что навсегда, отныне и до последнего вздоха, лишаюсь высочайшей и единственной цели своей жизни и, ничего не приобретя, теряю все, в ту ночь мои руки, дотоле невинные, утратили невинность, ибо их обагрила безвинно пролитая кровь, ты меня слышишь? — спросил он, да, господин, — ответил я, и он продолжал: но прежде чем подошла к концу та постыдная ночь предательства, вероломства и злодеяний, озаренная пожарами, оглашаемая криками женщин и стонами умирающих, прежде чем над этой бездной преступлений и страданий занялась первая весенняя заря, я понял, что, не попирая данные людьми и Богом законы, не с обагренными невинной кровью мечами и затаенными в сердце и в мыслях темными и неистовыми страстями, а лишь в броне невинности и с чистым сердцем под этой бронею можно достичь ворот Иерусалима, которые должны распахнуться пред теми, кто душою близок покоящемуся в одинокой могиле Христу, потому что Он говорил: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, а еще говорил: входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их; тогда, восемь лет назад, на исходе той, самой тягостной в моей жизни ночи, я понял, как если б сам всемогущий Господь это мне возвестил, что, противу бездушной слепоты рыцарей, герцогов и королей, только христианские дети в своем милосердии могут спасти город Иерусалим, ибо скорее, нежели любая мощь на суше и море, чистая вера и невинность детей величайшие могут сотворить деянья, пока он это говорил, я закрыл глаза и вот тут, окруженный темнотой, но слыша каждое слово, которое он произносил, лежа рядом со мной в темноте, впервые увидел громадные стены и ворота Иерусалима, позолоченные светом, который не знаю откуда исходил, то ли от самих стен, ворот и башен, то ли от золотого сиянья, разливающегося в воздухе и в небе над ними, потом я слушал, как он молчит, а сам, оставаясь с ним рядом, в то же время был возле громадных стен и ворот Иерусалима, которые покоились под моими смеженными веками, залитые золотым сияньем, вдруг я услышал его близкий и ласковый голос: скоро уже рассветет, пора спать, на заре мне придется уехать, тогда я спросил: я тебя еще увижу когда-нибудь, господин? будь моя только воля, — сказал он, — ты б мог быть со мною всегда, до конца моих дней, Алексей Мелиссен, — сказал я, — знает, что я солгал, это я солгал, — сказал он, — Алексей Мелиссеи вовсе не паж, на самом деле он мой воспитанник и, хотя чужеродец, был до сих пор наследником моего состояния, скажи, господин, — сказал я, — город Иерусалим очень далеко? дальше, чем ты полагаешь и чем можешь вообразить, — ответил он, — дальше, но вместе с тем и ближе, нежели можно измерить временем и пространством, отделяющим нас от него, я только что видел стены и ворота Иерусалима, — сказал я, и, когда так сказал, надолго наступило молчание, спи, — сказал он, — а если у тебя хватит терпенья ждать, я однажды сюда вернусь, но не ночью, как сегодня, а ровно в полдень, а стены и ворота Иерусалима действительно золотые? — спросил я, не знаю, — ответил он, — я никогда не видел стен и ворот Иерусалима и никогда не увижу, но если ты их видишь такими, наверняка в отдаленном времени и пространстве они существуют в том виде, в каком предстали перед твоим внутренним взором, спи, — сказал он, и тогда, помню, уже погружаясь в сон, который сродни был немочи, немочи, полной радости и печали, я сказал: я буду ждать, господин, больше я ничего из той ночи не помню, проснувшись на рассвете и еще не открыв глаз, еще оставаясь во власти сна, я услышал плач иволги, чей голосок всегда будил меня на заре, но в то утро, разбуженный этим недалеким зовом, я сразу понял, что его рядом со мной уже нет, я лежал на своей подстилке и чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо прежде, хотя всегда просыпался в своем шалаше один, я подумал: все это мне приснилось, и, подумав так, даже пожелал, чтобы это был только сон, но, едва пожелал, в ту же минуту меня обуял страх, я сел на подстилке и вдруг увидел на своей руке драгоценный перстень, тот самый, который ты сейчас видишь, отец, должно быть уходя, он надел мне его на палец, когда я спал, поняв все, я преклонил колена и в утренней молитве возблагодарил всемогущего Бога, что это не было сном, а потом, потом много дней я ждал и был счастлив, как никогда в жизни, пока, наконец, однажды вечером не появился Алексей Мелиссен, когда он мне все рассказал, я спросил: ты был с ним? да, — ответил он, — весенние реки коварны, и не смог спасти? не смог, — сказал он, — это произошло очень быстро, так камень идет на дно, он говорил, а я думал: будь я с ним, я сумел бы его спасти, а потом, когда Алексей ушел и я остался один, в ту ночь, лежа без сна, я впервые услышал во тьме его голос, говоривший: покинь свой шалаш, Жак, иди к детям и, где бы ты их ни нашел, в большом или малом числе, скажи им: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы, противу бездушной слепоты рыцарей, герцогов и королей, дети христианские не оставили милостью своей и милосердием город Иерусалим, сын мой, — сказал старик и остановился посреди дороги, он стоял в сгущающихся сумерках, огромный и грузный, в своей бурой тяжелой рясе, а когда повернулся лицом к идущим, передние остановились, затем остановились те, что шли за ними, и так дальше и дальше, пока не замерли теперь уже почти невидимые ряды замыкающих шествие, наступила тишина, старый человек подумал: если б я был послушен только своему внутреннему голосу, я пошел бы с ними, зная, что, как и они, обречен, но все равно бы пошел, на пути к погибели осененный тенью надежды, а в минуты особого воодушевления, в соприкосновении с их неведением, быть может даже сам блага неведения удостоясь, так бы я поступил, если б только своему внутреннему голосу был послушен, но, будучи другому голосу подчинен, не поступлю так, как хочу, а вот как не хочу, поступлю, сын мой, — повторил он, Жак стоял рядом, опустив голову, хрупкий и светловолосый, было тихо, и старому человеку не понадобилось чрезмерно напрягать голос, чтобы быть услышанным стоящей перед ним, сбившейся в плотную кучу и по краям теряющейся в отдалении толпой, сын мой, — сказал он, и голос его дрогнул, я не могу простить твои прегрешенья и благословить тебя не могу, он увидел перед собой побелевшее лицо Жака и изумление в его глазах, внезапно сменившееся смертельным страхом, тогда, повторяя в мыслях: Боже, прибавь мне сил, нельзя, чтобы сбылся мой ужасный сон, он раскинул в стороны руки и, стоя так посреди дороги, в почти полной уже темноте, лицом к лицу с безмолвной и неподвижной толпой, огромный, с распростертыми перед безмолвной и неподвижной толпой руками, вскричал зычным голосом: дети мои, милые мои дети, поверните, пока не поздно, назад и возвращайтесь домой, именем всемогущего Бога и Господа нашего Иисуса Христа запрещаю вам следовать за тем, кого я ни благословить не могу, ни простить, тогда Жак крикнул точно обиженное дитя: Алексей! и пока исповедник, по-прежнему стоя с распростертыми руками посреди дороги, взывал: я прошу вас, я вам приказываю, слова церковного гимна: О Maria, virga davidica, virginum flos vitae spes unica — начатого сильным голосом Алексея, мгновенно подхватила сотня других голосов, заглушая призыв старого человека, стоящего с распростертыми руками посреди дороги, пение набирало силу, минуту спустя оно неслось уже из самых отдаленных рядов, Жак стоял, окутанный этим пением, оцепенелый и бледный, идем, — услышал он рядом с собой голос Алексея, почувствовал его пальцы на своей руке и, оставаясь во власти набирающего силу пенья, подчинился бессловесному приказу, прошел будто во сне мимо беззвучно вопиющего человека, который стоял в своей бурой рясе посреди дороги, раскинув неестественно длинные руки, миновал его, не высвобождая своих бессильных пальцев из крепкой руки Алексея, впереди была ночь, Жак шел, чувствуя только холод сырой земли под босыми ногами и руку Алексея на своей руке, и вдруг осознал, что они идут не одни, мощное пение внезапно сделалось еще более мощным, он хотел остановиться, идем, — сказал Алексей и крепче сжал его пальцы, старый же человек, распростерший руки в густеющем мраке, окруженный со всех сторон пением детских голосов, больше не был один посреди дороги, его, неподвижного, обтекала медленно движущаяся густая толпа, он кричал, никем не слышимый, видя проплывающие с двух сторон от него головы, белые платья и обнаженные плечи, а над собою кресты черней темноты, белые хоругви и над ними пока еще беззвездное небо, он кричал: я благословляю всех вас и всем отпускаю грехи, уже совершенные и те, что вам еще предстоит совершить, ибо, когда нет надежды, только потребность в надежде, но внезапно, выкрикивая эти слова, пошатнулся, потому что маленький, самозабвенно поющий мальчик, несший вдвое больший, чем сам он крест, задел его вытянутую руку этим крестом, он почувствовал ледяной укол боли, почувствовал, как, будто сломанное крыло, бессильно опадает рука, нагнулся, чтобы ее поднять, и, плотнее, чем прежде, окутанный теплом проплывающих рядом белых платьев, белых туник и голых ног, вдруг услышав мощное пенье выше, чем слышал до этой минуты, упал на колени и через толстое сукно рясы почувствовал под коленями влажную мягкость земли, почувствовал запах земли, а затем, вслепую шаря руками, ощутил пальцами влажность земли, благословляю вас, — сказал он очень отчетливо, хотя почти касался лицом влажной земли, и, связанный с землей коленями и руками, утратив на долю секунды зрение, но открытым ртом вдыхая влажный запах земли и слыша высоко над собой медленно перекатывающееся во тьме мощное пенье, всем собою, всем своим огромным и грузным телом приник к земле, теперь он лежал навзничь, и глаза его были открыты, головою, спиной, а также бессильный беспомощностью неподвижных ног он чувствовал влажную землю, я никогда не увижу Иерусалима, — подумал он, высокие детские голоса звучали уже в таких отдаленных высях, что стали ему чужды и безразличны, босые же и грязные, землей и потом пахнущие детские ноги входили в его живот, в его грудь и плечи, в его лицо, погружались в него, как во влажную землю, он лежал навзничь и вдруг застилаемыми темнотой глазами увидел темноту, беззвучно смыкающуюся поверх обнаженных бедер и босых ног, которые все глубже втаптывали его во влажную землю, он подумал: не ложь, а правда убивает надежду, и, едва так подумал, и в нем, и над ним разлилась темнота, и с нею пришел испуг, а вслед за испугом еще более страшный страх, продолжая сжимать руку Жака и вместе с ним углубляясь в ночь, вместе с ним увлекаемый пеньем Алексей, когда почувствовал, что пальцы Жака дрожат, сказал: если прикажешь, мы будем идти целую ночь, и Жак ответил: пусть будет так.