-
Жанры
-
Художественная литература
- Приключения 72540
- Фантастика 95739
- Фэнтези 69799
- Детектив 57913
- Ужасы 45654
- Роман 67559
- Классическая литература 59583
- Историческая проза 8072
- Современная проза 137939
- Детская литература
- Культура и искусство
- Научная литература
- История
- Бизнес
- Прикладная литература
- Документальная литература
- Образование
- Дом и семья
- Физическая культура
- Здоровье
- Литература на иностранных языках
-
Художественная литература
- Книги
- Рецензии
- Сообщество
- Блоги
- Цитаты
- Тесты
- Подборки
- Премии
- Конкурсы
- Другое
Владимир Дмитриев
Краткая биография автора
Любви моей последний час Анатолий Загородний «ЛЮБВИ МОЕЙ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС…» (О Владимире Дмитриеве, тонком прозаике, художнике и незаурядном барде, авторе замечательных песен)Володя говорил мне, что многим хорошим вещам научил его комсомол. В частности, пить аспирин с вечера на веселую голову, а не утром, как делают это обыкновенно все умники, когда голова уже раскалывается чёрт знает как. У комсомольцев же она с утра всегда ясная, объяснял он, потому что пьют аспирин с вечера и утром при кристаль...
Любви моей последний час Анатолий Загородний «ЛЮБВИ МОЕЙ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС…» (О Владимире Дмитриеве, тонком прозаике, художнике и незаурядном барде, авторе замечательных песен)Володя говорил мне, что многим хорошим вещам научил его комсомол. В частности, пить аспирин с вечера на веселую голову, а не утром, как делают это обыкновенно все умники, когда голова уже раскалывается чёрт знает как. У комсомольцев же она с утра всегда ясная, объяснял он, потому что пьют аспирин с вечера и утром при кристально чистой голове они вполне соображают, что нужно в первую очередь делать... Урок этот я вполне усвоил, ибо не раз видел, как Дмитриев встаёт по утрам. Когда чета Дмитриевых ночевала у нас, это было ещё в Алма-Ате, жены наши обычно спали в детской, мы же с Дмитриевым в зале, я – на диване, он – на полу, где попрохладней... Володя всегда просыпался раньше. – Толя, ты спишь? – мычал он, нашаривая на полу очки и щурясь в мою сторону мученическими глазами. – Толя, перестань спать. Посмотри, какое утро! Нельзя спать в такое утро! Это преступление! Што, головка болит?! А... я говорил тебе, слушайся комсомольца Дмитриева! Не послушался! Дмитриев сбрасывал с себя простыню и, в трусах, но зато уже с очками на носу, большой, толстый, но проворный, как сибирский медведь, стеная, охая и зная, что нужно в первую очередь делать, полз к окну, распахивал пошире рамы: "А то не услышат", – хрипел он, вставал на четвереньки, выпрямлялся, свешивался с седьмого этажа в окно и во всю мощь своих легких, своего могучего баса (в армии ему официально предлагали пойти учиться в консерваторию "на оперного певца"), который непостижимым образом иногда взле¬тал до пронзительного меццо-сопрано, при котором, буквально, дрожали стекла (и все внутри дрожало) – басовопил совершенно поставленным голосом: И Ленин всегда молодой! И юный Октябрь впереди! Двор – прохожие, кошки, собаки, две козы, которые постоянно паслись во дворе, и, кажется, весь город бывали оглушены, раз¬давлены, уничтожены таким опереточным и вместе с тем таким высоко-классическим и патриотическим пением – сплошной оксюморон – все затихало во дворе, как по команде... Только из детской с восторгом выбегали дети (двое Дмитриевских, двое наших) и следом с кудахтаньем и причитаниями – жены... – Господи, Володя, соседи же сбегутся! – давясь от смеха, но как положено, выдерживая этикет, укоряла Галина непутёвого мужа. Но мы дружно, и в глазах жены моей тоже стояло молчаливое одобрение, просили Дмитриева ещё раз пропеть в окно, нам это безумно нравилось, и Дмитриев, размягчённый, улыбающийся, до¬вольный, с большой охотой повторял этот замечательный номер. И никогда не было никаких замечаний со стороны жильцов. Только однажды соседка сказала: "По радиве у вас опять переда-вали песню про Ленина... Хороший голос... Громкий... Только вы отключаете сразу..." Они верили, что это было по радио или телевизору, а поскольку про Ленина, то и на громкость нельзя было жаловаться. Позже над нами, на восьмом этаже, поселился какой-то нервный и злобный старик, бывший директор алма-атинского пивзавода. Этот, но уже по другому поводу, забросал инстанции жалобами на нашу квартиру. Трижды к нам приходил участковый выяснять, почему по ночам хозяин квартиры делает палочки для мороженого (так старик воспринял мой стук на пишущей машинке)... Но что любопытно, пение Дмитриева оставалось и для него неприкосновенным – старик был последовательным коммунистом и, конечно, умилялся, когда Дмитриев затягивал про Ленина. Хохма Володи для тех лет застоя была во всех отношениях непогрешимой... Он любил и умел хохмить. Когда это делает такой большой по габаритам и такой серьёзный человек, да ещё нередко и с самой серьёзной миной, это как-то особенно смешит и располагает. Он всегда готов был чего-нибудь выкинуть. Глаза у него были всегда с едва уловимым, но определённо лукавым блеском. В доме у Дмитриевых, я познакомился с Сашей Шайкиным. Дмитриев уже работал в ЦК ЛКСМ Казахстана. Шайкин преподавал в КазПИ. – А вы кто? – спросил я Шайкина, когда мы вышли покурить на кухню. Шайкин был человеком деликатным и уже тогда имел профессорские замашки. – То есть как кто? – не понял он. – Ну, по специальности... И тут он меня огорошил: – Бабелист, – сказал он. – По бабам, что ли, спец? – не сразу сообразил я. К тому же, выпив, я обязательно задирался. – Так и говори, что бабник. – Да нет, я читаю курс по писателю Бабелю... спецкурс... А вообще сейчас у меня лекции по Достоевскому... Сердце у меня ёкнуло. Я любил Достоевского. Мы курили на кухне. Володя стоял третий. Глаза его тотчас загорелись. – Рекомендую вам, Сан Саныч, – обратился он к Шайкину, – Анатолия Яковлевича, молодого прозаика... – и добавил: – Кстати, специалист по Достоевскому. Может заменить на случай. Безумно интересно читает... Дмитриев был хорошим педагогом и психологом, он рассчитывал все ходы наперёд. – Хоть сейчас, – вызывающе сказал я. Я ненавидел филологов. Я считал их паразитами на теле литературы. Но сам-то я в жизни никогда ничего не читал. – Замётано… Утром, Толя, и прочтешь... за Сашу... – Дмитриев умел говорить как-то так просто и необидно, непререкаемо, что от¬казать ему было невозможно. Вопрос оказался решённым. – Покажешь им, Толя, кузькину мать! – закончил Дмитриев. Утром, на похмельную голову, проклиная все на свете, я был пе¬ред аудиторией. Меня хватило на 35 минут. Воспоминаний – на всю жизнь. – Ну как, Толя? – ухмыляясь, приветствовал меня Володя после лекции. Я стал объяснять, что если бы я читал так, как Шайкин, – (Саша мило подзаикивался, и через слово-другое обязательно произносил «асмь»: "Так, значит, перед вами выступил, асмь, писатель Загородний, асмь, Анатолий, асмь, Яковлевич..."), – если бы я так читал, объяснял я, я бы мог читать целые сутки, нет, двое, трое суток... – Правильно, Толя! Все лекторы такие зануды... А Сан Саныч – первый! Я великодушно согласился. Но я все понял... И все же и тогда, и теперь я поражаюсь тому, с какой лёгкостью и как просто Володей разрешались многие вещи, казалось бы, невозможные и неразрешимые. Он не только ведь шутил, при этом он доверял мне и верил в меня, это была в нём неистребимая черта. Он как-то странно, по-детски, верил в талантливость людей, в их способности, доверял им... Дмитриев любил смеяться и был очень заразителен его смех и его насмешливость, всегда добрая... Другое дело, что он не всегда открывался и, может, не все в нём замечали этой его заразительности, я бы сказал, безудержности этой зарази-тельности. В нём всегда сидел мальчишка, пацан, которому хотелось набедокурить, напроказить, нашалить – он сдерживал себя и проказничал, по всему, чаще в мыслях. Но иногда шло и дальше. Как-то мы с ним оказались в киноаппаратной одного при-мерного заведения – Алма-атинской ВКШ, которую Володя тогда возглавлял. Мы кого-то ждали. Потыкав по клавишам видика (в семидесятых это была большая редкость), Володя предложил мне кино. На экране пошли титры "Греческой смоковницы" – по нынешним меркам – красивого и безобидного эротического фильма, но тогда... Мы смотрели минут пять. Я прилип к экрану. – Слушай, – сказал вдруг Володя. – Гм... Я, кажется, старик, не ту кнопку нажал... – Ну и бог с ней, – обронил я. И вдруг увидел, что Дмитриев смотрит на меня ну совершенно счастливыми и восторженными глазами. – Ты чего? – спросил я. – Так я ж говорю тебе, кнопку не ту нажал... – задыхаясь от смеха он показывал мне куда-то за стену. – Там, – пояснил он, – в зале – большой экран, Толя, все автоматизировано, и там, – Володя посмотрел на часы, – идёт лекция по научному коммунизму, а мы шпарим им "Греческую смоковницу"... в качестве иллюстративного материала... А! Ё-моё! Ну, мы даём! А чего теперь делать будем?! – Дмитриев был совершенно счастлив. – Твою мать! – Глаза у него сияли. – Толя! – Так студентам, наверное, интересно... В дверь постучали. Володя открыл. На пороге стоял очкарик с вытаращенными, готовыми выскочить через астигматические линзы глазами. – Владимир Павлович? Вы? – изумлённо произнёс он, а сам так и косился на экран. – Присаживайтесь... – Володя представил мне гостя и от-рекомендовал меня: – Венедикт Ерофеев (именем автора подпольного и скандального тогда романа "Москва – Петушки"), инструктор ЦК. С проверкой. Гость вытянулся по швам. – Что-нибудь случилось? – участливо осведомился Володя. – Да... Владимир Павлович... Это... Это демонстрируется там... на лекции... у меня... – Правильно, все правильно... – В лице Дмитриева прочитывалась чрезвычайная озабоченность. Он доверительно взял собеседника за руку. – Наши студенты... гм... наши студенты... Да! Наши студенты... нуждаются в контроле… – Выход, кажется, был найден. Я видел, как Володя просиял. – Контроль, Геннадий Андреевич, – я не помню, разумеется, точно имени-отчества преподавателя, – контроль, Геннадий Андреевич, за студентами – это главное! – судя по всему, Володя уже определился и с идеологическими формулировками. – Вот для чего нужна эта проверка. Да, Геннадий Андреевич, мы проверяем студентов на "вшивость". По новой методе. Но, вы понимаете, все это совершенно секретно, все это под секретом... Расскажите, гм, какова реакция у студентов? Так, так... – слушал он. – Ну что же... Ясно, Геннадий Андреевич, ясно, что Запад не дремлет и, проникая в нашу среду, разлагает студентов. Но для этого мы и поставлены, чтобы противодействовать. Вот, товарищ сам скажет... – Мы им покажем кузькину мать, засранцам! – нашёлся я (понимая, что по штату мне многое позволено), пряча свои штиблеты глубже под кресло и прикрывая правой рукой продырявленную на левом локте рубашку (как-никак работник ЦК). – Можете идти и продолжать лекцию, – между тем закончил Володя. Инцидент был исчерпан. – А... – остановил он лектора, – вы не знаете, как отключить видео от зала? – Нет, Владимир Павлович. – Черт, – ухмыльнулся Володя, закрывая за лектором дверь. – Я тоже не знаю. Придётся целиком выключить всю систему. – Жалко. Такая красивая баба... – огорчение моё было искренним. – Ладно, старик, так и быть, вечером я сыграю тебе на гитаре... Он знал, чем меня купить, знал, чем умаслить. Вечером мы присоединили к себе жён и вместе хорошо напелись и хорошо надрались. Нет, это не часто бывало, но жизнь длинная, жизнь такая, Господи, длинная... У Володи было несколько словариков (тогда это тоже было в редкость) жаргонных выражений и словечек. Он замечательно владел сленгом, вообще искусством речи. С одинаковой лёгкостью он говорил с блатными и с профессорами, с бюрократами и политика¬ми, с каждым на его языке. Он обладал даром перевоплощения. Но перевоплощения ненавязчивого, не показного, тонкого, при котором оставался самим собой. Он всегда сохранял едва уловимую, но все же всегда различимую между собой и другими дистанцию, которая удерживала этих других от фамильярности – расположение к нему, вызываемое им, сочеталось всегда с неподдельным к нему уважением. Дело было, конечно, не в сленге. Володя чувствовал и, главное, знал и понимал людей. Володя был щедро одарён Богом, в равной степени он обладал недюжинным и редким голосом, композиторскими способностями, даром художника и даром писателя, которому открыта таинственная красота и магнетическая власть слова... Это трудно, когда тебе так много дано Божьего. Но Володя определился, отдав предпочтение слову. Труднее оказалось выбрать между литературой и педагогикой. Но об этом чуть позже... Я помню наш шутливый спор с жёнами на кухне, когда мы с Володей заявили, что станем Нобелевскими лауреатами. На это заявление наши жены заключили с нами пари, согласившись в случае получения этой самой премии пройтись голыми по главному проспекту столицы. Жаль, ах как жаль, что нам не удалось этого увидеть! Думаю, и Володя, и я, отдали б своё лауреатство за один этот миг, за один марш этого признания в любви во всей его обнажённости... Я перечитываю сейчас вторую книгу Володи – "Когда кончилась война", и теперь осознаю, что заявление его не было беспочвенным. Только ныне, через два с лишним десятка лет, я подхожу к тому пониманию литературы, к той простоте, к той пластике, ясности, прозрачности и чистоте прозы и той её органической связи с жизнью, которые были сразу присущи творчеству Володи и делали его таким гармоничным. Только сейчас я понимаю, что литература – это все же не игра, не царство фантазии и вымысла, но того опыта жизни и внутреннего страдания, которые всегда трогают людей и отзываются в них болью, радостью, Божьим волнением... Я не мог без слез читать эту его книгу, и не потому, что на моё восприятие наложилась смерть Володи, а потому, что стал чувствовать то, что Дмитриеву дано было чувство¬вать как бы изначально. Чувствовать и уметь это передавать. Он об¬ладал этим опытом и этим страданием. И в этом смысле Володя, как минимум, на два десятка лет обогнал нас в литературе. На целую жизнь. Мы ещё оставались литературными мальчиками, а он уже делал литературу, писал настоящую прозу. Но, как мне видится, и литературе он не всего себя посвятил – человеческий дар был в нём ещё сильнее... Я долго не мог понять Володю и долго не прощал ему того, что он не целиком отдаёт себя литературе, что он предаёт литературу – своей кандидатской, своей аппаратной службой, своим неизбывным стремлением материально обеспечить жену, детей, – я не понимал, что педагогический институт, преподавание в школе, работа в ЦК комсомола Алма-Аты, директорство в комсомольской школе Алма-Аты, аспирантура в Москве, наконец, деканство в Независимом эколого-политологическом университете – все это звенья одной цепи, что дело не в аппарате, не в аппаратной службе, а в родительском, в педагогическом призвании, которое оказалось сильнее всех призваний, в том числе и литературного, – он предавал не литературу, а, скорее, педагогику, когда занимался литературой. Педагогическое же его призвание берет начало в детстве... А детство это страшноватое. Не один раз, ночами, до рассвета, он рассказывал мне о нем. Я не хочу сказать, что, мол, к сожалению, не помню этих рассказов, нет, я сознательно их не запоминал, считая, что это только Володино достояние, мне же грех пользоваться им. У нас, у литераторов, есть склонность бессовестно обкрадывать друзей в отношении фактов из их жизни. Приведу только один пример из этих рассказов. Раз в году, кажется, в Зареченск, приезжал ветеринарный врач. Тогда, в послевоенные годы, на всю округу не было ни одного зубного, да и других врачей... Приезжал, чтобы рвать зубы больным. Ибо эти зубы лечить было некому. Выстраивалась бесконечная очередь (северный авитаминоз и отсутствие медицинской помощи делали своё дело). Это был могучий мужик. Настоящий зубодёр. Он рвал зубы плоскогубцами. "К вечеру, – рассказывал Володя, – из избы выносили полведра, а то и ведро зубов! Представляешь, старик?!" Далее ветеринарного врача вели ужинать – самогон, картофельные очистки, и какие-то, по сибирским рецептам приготовленные, брикеты из трав, что-то наподобие жмыха. Есть было нечего. Есть всегда было нечего... Шпингалетом, после гибели отца на фронте и смерти матери, он был сдан старшими братьями в детский дом. Я знаю, Володя не один десяток лет искал своих братьев по всему Союзу. В конце концов он нашёл одного из них. Чтобы тут же потерять. Брат через пару лет после встречи тоже погиб в автомобильной катастрофе. Понять жизнь и судьбу Дмитриева может только тот, кто рано осиротел. У кого на всем свете не было ни одного родственника. Всемирное одиночество было в Дмитриеве и навсегда осталось в нем... Дефицит родительской ласки – невосполним. Ласку эту он от¬части получил в детдоме. И годы, проведённые там, как это ни стран¬но, стали самыми светлыми и радостными в жизни Володи. Там осталось все лучшее. Все самое чистое. Там он остался сам. Вечный детдомовец Дмитриев. Оттуда – кодекс чести, мужества и мужской солидарности. Вся страна была для него большим детдомом. Все люди – дети в нем, которые нуждаются в ласке, помощи, заботе, защите... Отсюда – его педагогика. Прежде литературы. Из детства же в Дмитриеве – неистребимая мечтательность и фантазёрство, которые, может, не многие знали за ним. Где-то, в конце семидесятых, Володя стал учиться в Москве в аспирантуре при ВКШ, семья же – Галина с двумя детьми мужеского пола, двумя прожорливыми троглодитами, оставалась в Алма-Ате. Такое положение чревато было не только постоянным чувством вины, напряжением в семейных отношениях, оно тяжело было и в материальном плане. Володя же поставил перед собой цель не только закончить аспирантуру, но и получить квартиру в Москве и перетянуть в Москву семью. Он хотел, чтобы у его детей было все не так, как у него самого, и чтобы была у них и сама Москва. И не щадил себя ради этой цели. И всю жизнь он мечтал разбогатеть. Господи, каких только планов не было у него, каких только прожектов не являлось в его голову! Только тогда уже, обеспечив семью, считал он, имея на это моральное право, мог он позволить себе заняться литературой. Практически же всю жизнь со своей семьёй он жил в вечных долгах. Одной из любимейших его тем была тема о великих литературных должниках – Бальзаке, Достоевском, позже – о Высоцком. В 90-х его планы стали обретать конкретные очертания и воплощаться. Но и до последних дней на нём висели долги, правда, теперь это были долги, связанные со строительством загородного дома. Но перед смертью он успел заработать все необходимые суммы, и родные смогли расплатиться по долгам полностью. Только сам он не успел узнать, что такое – свобода... В 91-м у меня с женой пошли нелады, Володя и Галя сильно переживали и прилетели специально в Алма-Ату, чтобы по-мирить нас. Я жил на откочёвке в Доме творчества. Дмитриев явился ко мне рано утром. И двенадцать часов подряд он уговаривал меня, чтобы я вернулся, приводя все мыслимые и немыслимые доводы в пользу семьи. Семья для него была великой ценностью. 96-й год стал для Володи переломным. Он начал строить в Подмосковье загородный дом. Этот дом возникал у него не раз в рассказах, как самая сокровенная мечта... Они хотели с Галей перевезти туда её родителей. Но как-то постепенно в Володиных и её мечтах дом этот начал обрастать все новыми жильцами. Меч-тали, что вместе с ними когда-нибудь будут доживать в нём свой век их друзья. Володя числил этот дом и новую жизнь в этом доме чем-то вроде той, детдомовской, коммуны, по которой он, верно, всегда скучал и к которой всегда возвращался в своих рассказах. Мы должны были вместе работать на земле, а в свободное время вести беседы, бродить по окрестностям и заниматься творчеством. Я слышу его голос: "Толя, нам уже трудно будет на электричке ездить, Толя, – хрипит он, – надо будет купить "Джип"!" Не сомневаюсь, потом бы он занялся покупкой катера, который так ярко описан у него в повести "Родительский день", – река Москва протекает рядом с его домом. В октябре 96-го мы с Володей заделывали плёнкой чердачные проёмы в его доме, чтобы не надуло туда зимой. Потом распили бутылку, загодя прикупленную на станции вместе с закуской. Мы оба были счастливы. По возвращении, перед электричкой, мы ещё "причастились" на станции. Ночь была такая чудная. Нам было так хорошо. И сойдя в Москве, мы не могли не выпить ещё по сто граммов. Поднялись мы на четырнадцатый этаж "тёпленькими", побожившись, что кроме бутылки ничего в рот не брали. Галина сильно удивлялась, как это с бутылки можно так закосеть. По дороге Володя молча сунул мне в карман сотенную. Переводы от него, без всяких на то просьб с моей стороны, приходили и прежде в Орёл. Я знаю, что такие же переводы шли не в один конец России...В том же году, 16 мая, в свой день рождения, Дмитриев в очередной раз схохмил, разослав всем своим друзьям поздравления с днём рождения... Я никак не мог понять, почему Володя так рано меня поздравляет. Пока не понял, что он поздравил всех нас с собственным днём рождения... Не имея возможности полностью отдаться литературе, Володя всегда тянулся к людям творческим, ему недоставало этого общения. Гордился знакомством с Юрием Домбровским, автором "Хранителя древностей", "Факультета ненужных вещей", романа "Обезьяна приходит за своим черепом", шедевра мировой литературы – "Смуглой леди". Они познакомились, когда Юрий Домбровский вышел из карагандинского Гулага и некоторое время жил в Алма-Ате. В большой дружбе был Володя со скульптором, резчиком по дереву якутом Балдано, работы которого широко известны. Стены Володиной квартиры украшают эти ни на что не похожие, огромные и круглые, олицетворяющие некую нашу прародину, маски Балдано, даренные Володе автором. Мне известно, с какой неутихающей нежностью, с какой неутолимой любовью относился Володя к Саше Десятову, художнику, абсолютно преданному своему призванию и в этом смысле в известном роде человеку блаженному. Его картинами увешаны стены Володиной квартиры. Один раз я виделся с Сашей, мы были у него с Володей в Химках, в его квартире-мастерской, которую выхлопотал ему тот же Володя... Когда я бывал в Москве, Дмитриев всегда сопровождал меня по моим делам, несмотря на свою занятость. Ему почему-то казалось, что я ничего не найду, не то сделаю, не смогу купить билета в Алма-Ату, и он помогал с билетами, с литературой, наводил справки... В последнее время он ездил на работу по Вешняковской ветке из одного конца города в другой. Он сильно уставал. Мы ехали по этой же ветке. Я упросил Володю не провожать меня на Курский вокзал, чтобы посадить на поезд. "Ну на фига тебе делать этот крюк, езжай прямо до работы". – "Ты думаешь? Ты думаешь, что доберёшься сам?" – "Ну конечно! Бог мой!" Он остался сидеть в электричке в некотором смущении и с такой странной ко мне благодарностью. Таким он мне почему-то и запомнился... Он сильно уставал. Но за тридцать лет я ни разу не видел в нём раздражения, не чувствовал его, ни разу он не позволял себе как-то хоть чуточку повысить голос... Когда ему бывало особенно тяжело, особенно в доме его, наполненном порой немыслимым количеством приезжих людей, кои были почти обязательным атрибутом как алмаатинской, так и московской его квартир (это ещё одна особенность его жизни, не дававшая ему отдыха и возможности работать), поднимался он в некую квартирку за три остановки от дома, в квартирку, снимаемую под офис (по вечерам там никого уже не было), и как сильный и большой зверь, зализывал в одиночестве свои раны и набирался сил. – Знаешь, Толя, – говорил он мне в этой квартирке, на кухоньке, где у него был оборудован для работы стол, – зайду с вечера, дождусь, когда высыпят звезды на небе, положу перед собой чистый лист бумаги, задумаюсь над ним... гляну... а уже – утро... И только одна звезда сияет ещё на небосклоне, неугасимая... С ним было надёжно, тепло... В последний десяток лет, осо-бен¬но в три последние года, когда я перебрался из Алма-Аты в Орёл, я сильно привязался к нему, скучал по нему, мне иногда просто хотелось посидеть подле него, у ног его, как собаке... Смерть его я воспринял в ряду смерти отца и матери, которых похоронил – всех за один такой длинный год... Не от Дмитриева (Володя был щепетилен в этих вопросах), от страдавших по нему женщин мне известно, что в Володю влюблялись женщины, они любили его, большого, толстого, нещадно потевшего, любили так, что скажи он, они тотчас ушли бы с ним, к нему... Да вот только он – его крест, его мука и счастье – всю жизнь и до смерти любил только одну. её образ, слишком очевидно, всегда один и тот же, сквозит во всех описанных им с необычайной нежностью женщинах и девочках-подростках... – в Ленке из рассказа "Весной", в Рыси из "Затона", в тоненькой и хрупкой учительнице Елене Дмитриевне из "Родительского дня" под именем Лены, любимой им реки... Сущность этой любви, скорее всего, выражена в рассказе (этом маленьком Дмитриевском шедевре) "Василек и Француженка", в образе убогого и калеки, безногого Василька, безнадёжно и пожизненно верного, преданного "Француженке" и немо обожающего её – девочку в лохмотьях, выступающую на базаре перед солдатами, среди грязи мира сего – юное и вечно сияющее перед глазами Дмитриева божество... В письмах Володи ко мне периода издания второй его книги (я был редактором её) Володя совсем немного говорил о себе и своей книге. Но с каким вдохновением начинал он изъясняться, когда речь заходила об издании книги Галины – той самой Рыси, Ленки, тоненькой учительницы, "Француженки", жены его...Галиной, как бы в ответ Володе, написана удивительная прозаическая вещь. Она называется "В тиши Аркадии". Я бы положил эту повесть в надгробие ему, тихую и прелестную повесть. Я всегда с упоением слушал Володю, когда он пел... Сам я умел петь под гитару только одну незамысловатую и простенькую песню, нещадно фальшивя. Но Володе отчего-то нравилось. Наверное, за чувство, которое я вкладывал в эту песню. Не было случая, чтобы он не попросил меня спеть ему. Вот она, эта песня. Меня научил петь её мой старший брат:На высоте семь тысяч метров Пропеллер весело жужжал. Пропеллер выше и воздух реже, И для петли рычаг нажат.Так, значит, амба, Так, значит, крышка, Любви моей – последний час... Любил тебя я ещё мальчишкой, Но ещё крепче люблю сейчас.Друзья узнали, похоронили, Пропеллер стал его крестом. И часто-часто на той могиле Подруга плакала о нем...P.S. Несколько замечаний, которые я выношу за скобки собственно воспоминаний о Володе Дмитриеве, но которые, как мне думается, необходимо сделать. Ради истины. Ради памяти. Ради благодарности В. Дмитриеву. Я дважды заметил, что Володя сильно уставал. Нужно сказать, что усталость эта накапливалась годами и даже десятилетиями и в значительной степени была следствием того великодушия и гостеприимства, которые проявляли Володя и его семья по отношению к друзьям, знакомым и их родственникам, бесчисленным родственникам со стороны жены – братьям, сестрам, зятьям, племянникам и их родственникам, неделями, месяцами, гостившими в алмаатинской и в особенности в московской квартирах В. Дмитриева – то проездом, то в командировках, то на отдыхе, то на лечении и т.д. В квартире нередко жило по нескольку семей сразу. Негде было при¬ткнуться. Я сам был свидетелем тому. При этом Володя находил время для каждого, при этом каждого оделял душевной теплотой, сло¬вами поддержки, собственной энергетикой в ущерб своему здоровью, своему творческому потенциалу. Негде и некогда было не то что писать, но существовать... Но долг, но человеческие качества оказывались всякий раз выше присущего всем нам внутреннего здорового эгоизма. Божья заповедь "Возлюби ближнего, как само¬го себя" исполнялась им, однако, лишь в первой части, в ней же подразумевается и вторая – любовь к самому себе. Недостаточность любви к самому себе – может быть, единственный упрёк, который можно предъявить Володе Дмитриеву... В той же мере он был жертвенен и по отношению к жене. Любовь к ней не оставляла его до последних дней. Я виделся с Володей 6 марта, за несколько недель до его гибели. И был в очередной раз поражён тем удивительным чувством бережности, с каким он говорил о Галине... Так было всегда при наших встречах с ним в разные периоды жизни. Тем же чувством любви к Галине были продиктованы и пронизаны его письма ко мне. Позволю себе только теперь привести несколько мест из уже упомянутого мною выше письма. "...Толя, пишу тебе не за ради басен о соловьях. Пишу я тебе это секретное письмо по делу сокровенного для меня человека. Я, конечно, ничуть не сомневаюсь, что ты помнишь об этом человеке и о его такой необходимой для нас первой книжке, вспомни это, перенеси на хрупкую, впечатлительную Галку, и ты поймёшь, как именно сей¬час важно, чтобы решилась эта, непонятно отчего заморозившаяся проблема. Я больше чем уверен, Толя, что ничто сейчас не прибавит ей здоровья, интереса к жизни и оптимизма, как положительное решение о принятии её рукописи в производство. Это важно для неё ещё и в плане психологического утверждения в новом для неё и во многом сложном коллективе "Молодой гвардии". И так далее, и тому подобное... Шесть полных страниц убористого Дмитриевского почерка. Галина ничего не знала об этих письмах. Она бы посчитала не¬достойным просить за свою рукопись даже и мужа. Поэтому письма шли "за её спиной". Рукопись фактически "продвигалась" Володей. Для меня было достаточно и одного его слова, не то что целого письма, чтобы сделать все возможное. Но шёл уже 84-й год. Власть в издательстве художественной литературы, где я работал, поменялась. На смену жёстким, но практически всемогущим, именно в силу своей жёсткости и принципиальности, людям (В.К. Ермаченков, Г.А. Теплицкая), поддерживавшим все лучшее в литературе, пришли люди внешне "с широкой душой", но трусоватые, безответственные и равнодушные к литературе и судьбам литераторов. Галине было отказано в издании книги по формальному признаку – автор выбыл из Казахстана... В оправдание себе могу сказать, что в 89-м году я напечатал отдельно повесть Галины "В тиши Аркадии" в алмаатинском литературном журнале "Простор", журнале, не-когда котировавшемся в Союзе наравне с "Новым миром", были такие времена... Но суть не в том. За прозу неодарённого человека, за средненькую и серую прозу я бы не ударил палец о палец, будь это даже просьба Володи Дмитриева. Володя-то знал, за что просил. И я это знал. Проза у Галины Дмитриевой не то что неординарная, но по всем критериям это – незаурядная проза... Тем более при учёте того, что это фактически были её первые литературные опыты. И здесь я подхожу к главному, к тому, ради чего затеян этот постскриптум... Далее уже Галина не пыталась предлагать какому-либо издательству свою рукопись. Больше того, она уже не бралась за перо... Кто представляет себе, что такое отказаться вовсе от своего дара и вместе с тем представляет себе, что такое жизнь двух прозаиков в одном доме, в одной семье... Полагаю. что жертва была взаимной. И со стороны жены она была не меньшей. Но и этот крест, кто знает, тоже как бы "висел" на Дмитриеве... И уж, безусловно, что здесь, в этом пункте, – истоки того неподдельного уважения и пожизненной Любви, окрашенной духовным светом, которые Володя всю жизнь испытывал к Галине не просто как к жене, но как к личности и к своему первому другу, умевшему ценить его дар. В связи с этим мне бы хотелось, чтобы в готовящейся к изданию книге Владимира Дмитриева было помещено хотя бы не-сколько писем Володи, где бы речь шла о той самой "Француженке", той самой Рыси, о тоненькой учительнице, его жене... И, может быть, поместить в книге Владимира Дмитриева хотя бы что-нибудь из её прозы (1.Имевшаяся в виду книга вышла через три года: Владимир Дмитриев. Дневники, письма, проза, воспоминания о писателе. М., Изд-во МНЭПУ, 2001). Это было бы правильно.16 мая 1998 года, г. Орёл
На нашем книжном сайте Вы можете скачать книги автора Владимира Дмитриева в самых разных форматах (epub, fb2, pdf, txt и многие другие). А так же читать книги онлайн и бесплатно на любом устройстве – iPad, iPhone, планшете под управлением Android, на любой специализированной читалке. Электронная библиотека КнигоГид предлагает литературу Владимира Дмитриева в жанрах .
Творчество Владимира Дмитриева
На нашем сайте представлена 1 книга автора Владимира Дмитриева. Самая популярная по мнению наших читателей "".
"Припасть к тёплой земле" - вторая книга Владимира Дмитриева. В новых рассказах и повести, вошедших в эту книгу, автор развивает на более широком и интересном жизненном материале поднятую им в первой книге тему, название которой - воспитание чувств.
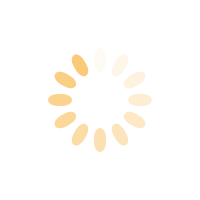
Если у Вас возникли вопросы по работе сайта - напишите нам!
нашли ошибку на странице!

Нейросеть ориентируется на оценки прочитанных вами книг
поиск

Найдите книгу, автора, подборку, издательство, жанр, настроение или друга на Книгогид
подборки
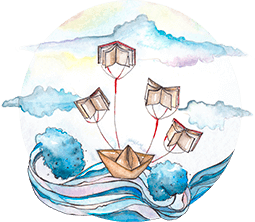
Создавайте подборки с книгами, которые вы прочитали, подписывайтесь на подборки интересных пользователей.
Регистрируясь, вы соглашаетесь с нашими Условиями и политикой конфиденциальности
Книгогид использует cookie-файлы для того, чтобы сделать вашу работу с сайтом ещё более комфортной. Если Вы продолжаете пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.


